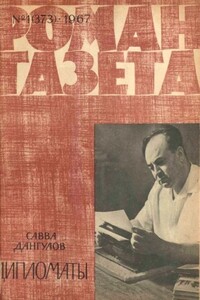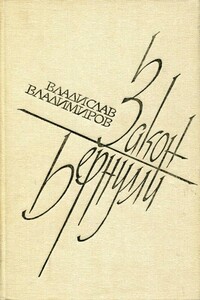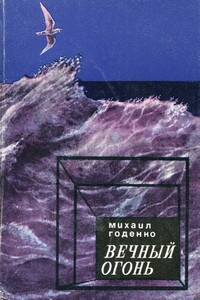Государева почта + Заутреня в Рапалло | страница 96
С тех пор о силе Германа пошли легенды в Сокольниках, и, как обычно, легенды немало превзошли самую силу Германа — он, конечно, был богатырем, но не таким, чтобы рассказывать о нем были–небылицы. Но вот что интересно: отныне всех, кто был причислен к семье Цветовых, величали в темных сокольнических просеках не иначе как Германовы. Под этой коль–чужкой непробиваемой — брат Германов — прошло и детство Сергея. Когда Лариска подросла маленько, на далекой просеке ее остановили Багры и не сняли, а содрали пальтишко, да так шибко, что пуговицы рассыпались по песку. «Так то ж сестренка Германова!» — прозрел один из Багров, разглядев испуганную Ларис–кину физию. Багры пришли в замешательство. «Надевай обратно!.. Даже пуговицы в траве отыскали и ссыпали в карман. Вот и получилось, что этой коль–чужкой превеликой можно было укрыть всю семью.
Природа отпустила и силы, и храбрости на всю семью, а он, не спросясь, забрал ее себе. Так могло показаться, но это было неверно. Просто вступило в действие правило: когда тебя охраняет брат, твои кулаки усыхают. Наверно, это и произошло с Сергеем. Нет, не то, что кулаки усохли, а вся сила ушла в математику. А тут еще в глазах оборвалась главная пружинка, и пришлось надеть очки. Вот и получилось, что у Геркулеса брат–очкарик. Стыдно сказать, что с той самой минуты, как нос оседлали эти проволочные очки, и мать переменилась к Сергею, как–то вдруг он стал в ее глазах не очень надежен. Она точно говорила: «Так он же очкарик… Что с него взять?» Зато необыкновенно вырос в ее глазах Герман. Она поняла, что именно Герман — ее надежда. Он и никто другой призван увенчать вековую тяжбу с Поярковыми победой!.. Долгожданной победой!.. Что говорить, она любила своего первенца. Ему шло самое гордое из слов: «Мужчина!» А это значило: человек слова и, конечно, человек дела. Поэтому лучший кусок она старалась приберечь первенцу. Скромного Германа это смущало. «Мама, не надо… Но она была непреклонна: «Пойми, ты старший, это тебе по праву».
Ко всем остальным в семье, включая и отца, она была снисходительна, а в снисходительности были жалость и скрытое сознание, что они ей не могут соответствовать ни характером, ни умом. Только Геркана она считала себе ровней и могла говорить с ним бесконечно. И любила говорить, не жалея ни времени, ни сил. Это были, конечно, рассказы о родословной, однако родословной не всей. Если она и хотела высветлить в сознании сына родословную, то только ту, что была собственно ее родословной, родственников мужа она отсекала напрочь, будто детей своих вызвала к жизни без участия тихого Цветова. Но вот что любопытно: хотела она этого или нет, но деликатному Герману эти рассказы сообщили тщеславие, какого у него не было, а вместе с тщеславием и желание не поступиться фамильной гордыней Цветовых. Было даже интересно, как можно в сознании человека, во всех отношениях достойного, вздуть этот кротко тлеющий уголек. Но, может быть, этого качества покладистому Герману как раз и не хватало, чтобы охранить себя и свои скромные интересы от сонма коллег, делающих на многотрудной банковской стезе карьеру, не без помощи влиятельного дяди Кирилла он уже был облечен званием банковского служащего. Действовал закон, который постиг и Герман: если всунул голову в хомут, по доброй воле его не сбросишь.