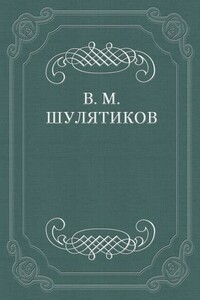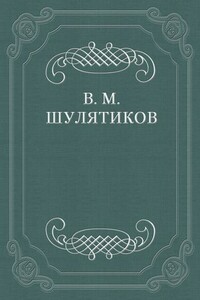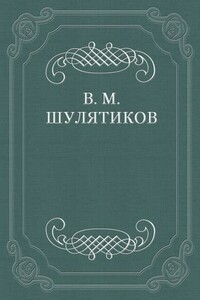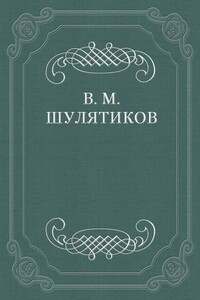Критические этюды (О поздних рассказах А. П. Чехова) | страница 4
Мы уже видели, как Саша оценивает решительный поступок героини.
Исходя из оценки «мещанского» существования, как существования паразитного, отмечая эксплуататорскую роль «мещан», он ясно дает понять, что протестует не столько против раскрытых им сторон «мещанства», сколько против «мещанского» застоя, сплина, неподвижности. «То же самое, что было двадцать лет назад: никаких перемен» – вот что всего больше его угнетает.
Рисуя картину наступления «царства Божия на земле», он выясняет Наде, что наибольшая ценность этого царства заключается в отсутствии мещанской «толпы»: «главное то, что толпы в нашем смысле, в каком она есть теперь, этого зла тогда не будет, потому что каждый человек будет веровать, и каждый будет знать, для чего он живет, и ни один не будет искать опоры в толпе».
Другими словами, уничтожьте «мещанство» – и «все дастся вам!»
Нет сомнения, что критика «мещанства» существенна важна и необходима. Важно и необходимо освещать критическим светом все сокровенные глубины «мещанского царства», изобличать все многоразличные проявления «мещанского духа», давать выпуклые характеристики носителей «мещанских» тенденций и настроений – начиная с хищников-»мещан» и кончая «глупыми пингвинами» и жалкими «гагарами». Но нельзя исчерпывать критикой «мещанства» свою писательскую миссию, нельзя рассматривать «мещанство», вне связи с остальными феноменами общественной жизни, игнорировать их общую реальную подпочву, отождествлять «мещанское царство» с понятием «всего человечества», видеть в «мещанстве» корень «мирового зла» и считать, поэтому, борьбу с «мещанскими» тенденциями величайшим подвигом.
«Он – яркий противник мещанства» – подобное определение, с некоторых пор, в устах литературных ценителей звучит, как высшая похвала. Факт этот свидетельствует лишь о суженном поле общественного сознания известной части современной интеллигенции. Литературные ценители, выставляющие данное определение, как высшую похвалу, являются «идеологами» общественной группы, которая, будучи увлечена интересами собственной борьбы за существование, имеет дело с одним только «мещанским царством»; от представителей последнего она экономически зависит, и то, что происходит в его недрах, занимает исключительно ее внимание; от остальных сфер социальной жизни она как бы отгородилась толстой стеной; от происходящего «по ту сторону мещанского царства» до ее слуха доходят лишь слабые отклики. «Мещанское царство» представляется ее сознанию, как самодовлеющее целое; границами его определяются границы ее миропонимания.