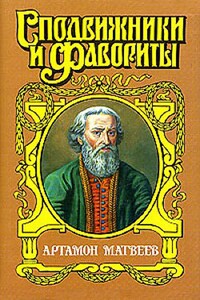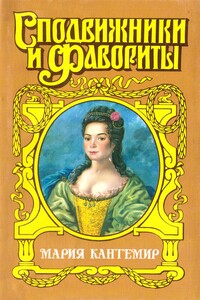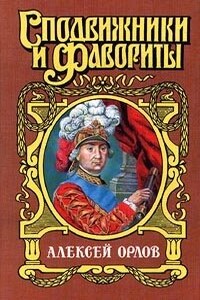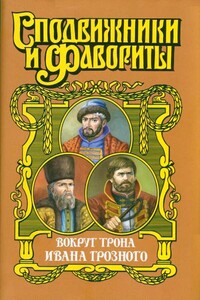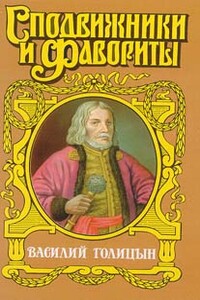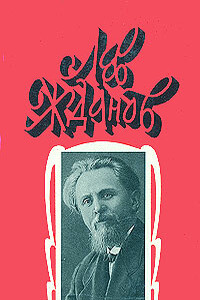С Петром в пути | страница 4
Кожу, небось, с живого не сдерут, как сдирали с евреев казаки Богдана Хмельницкого, — московиты не таковы. Он верил, хотел верить в милосердие царя Алексея. И прежде ловил слухи о нём, о Москве, выучился русскому языку, хоть было это нелегко, первое время он казался варварским. Потом его озарило, и пошло-поехало. Беглый русич наставлял его. Обрадовал нежданным и дорогим подарком — Псалтирью. С её страниц, захватанных до черноты, звучала сокровенная музыка.
Он знал языки немецкий, польский, французский, половину шведского, половину голландского. И вот — русский. Где-то, на самом дне его сознания тлела надежда: придёт день, когда русский будет востребован. Не настаёт ли этот день? И какое время для него наступило?
Адской кухне пришёл конец. Но угомонится ли король Владислав? Сможет ли смириться с потерею Смоленска? Или признает — вынужден будет признать — неизбежность конечную судьбы крепости.
О царе говорили ещё, что он привечает иноземцев в русскую службу. Но иноземец ли он, Поэль? Ж-ж-ж-ид! Удар кнута, плети, нагайки. Погонят ли их, жидов, из Смоленска, как бывало встарь? Короли, цари, герцоги, курфюрсты, графы сами дурны и прихотливы. Мы люди торговые и ремесленные, не без пользы для владык. С нас — с кого более! — дерут три шкуры. Мы покорны и безропотны. Мы — пленники, мы — данники. И ещё — мы пленники своего Бога, своей веры.
Как это странно — быть у Бога в плену, быть в плену у своих святынь. Однако Бог сам по себе ничего не требует. Он молчит со времён Моисея, с библейских времён. Требуют его самозванные служители, требуют дани, требуют подчинения, и все мы покорны им. Они твердят: наша власть-де от Бога. А сам Бог молчит. Его именем творятся скверные, мерзостные дела...
Эти размышления давно донимали его. С тех пор, как он читал Спинозу. И ещё Эразма Роттердамского. И Себастьяна Бранта — «Корабль дураков». Иной раз он чувствовал себя в его экипаже. Брант писал по-немецки, и ему досталось в наследство от отца нюрнбергское издание. Он плыл на корабле дураков вместе с пастором Иоганном, раввином Шмуэлем и беглым попом Семёном.
Ах ты, боже мой, как быть, как быть! Судьба дала ему бездонную память. Читанное, слышанное входило в неё, как нож в масло. Но нож-то отправлялся к собратьям, а новое знание застревало в нём в своём первозданном виде, будь то стихи или проза, молитвы и библейские тексты, затверженные в хедере[3], или мысли мудрецов мира сего, вычитанные из книг.