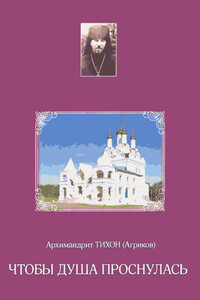Преподобный Иоанн Лествичник | страница 97
Не следует оставлять молитвы или ослаблять ее, когда долгое время не получаем просимого. «Проси со слезами, ищи с послушанием, ударяй в дверь с долготерпением, ибо так просяй приемлет, и ищай обретает, и толкущему отверзется» (Мф. 7, 8; Лествица 28, § 56).
В заключение преподобный Иоанн Лествичник говорит, что научиться истинной молитве из книг невозможно. Необходимо упражнять себя в ней опытно, то есть практически. Да и потому невозможно, что молитва есть особый дар Божий, имеет своим наставником Бога, Который научает ведению, дает молитву молящемуся и благословляет лета праведных (ср.: 1 Цар. 2, 9; Лествица 28, § 64). Молитвенным подвигом и заканчивает преподобный деятельность по обновлению ума.
Три важных добродетели: рассуждение (степень 26), безмолвие (степень 27), молитва (степень 28) — это как бы три очистительных и животворных ручейка, проходя через которые ум подвижника очищается от своих нравственных нечистот и обновляется для новой жизни. Однако для того чтобы достигнуть полного возрождения души, необходимо приступить к обновлению воли и этим тройственным очищением всех душевных сил добиться полной гармонии в душевной жизни.
в) Обновление воли
Степень 29. О бесстрастии
Чтобы добиться полноты духовного обновления или, как говорит преподобный, «воскресения души прежде общего воскресения» (Лествица 29, § 4), подвижнику необходимо с помощью благодатного содействия изменить свою волю. Вместо воли греховной, удобопреклонной ко злу, ему следует воспитать в себе волю боголюбивую, святую, бесстрастную, стремящуюся только к добру и Виновнику доброго — всеблагому Богу.
Совершение этого важного дела ведется на двух последних степенях лествицы (29-30). На них как бы венчается весь нравственный тяжелый подвиг крестного пути труженика Христова.
Сущность подвига 29-й степени — бесстрастие, то есть совершенное освобождение от всех «запинающих подвижника страстей». Преподобный Иоанн Лествичник эту добродетель называет состоянием небесной жизни здесь, на земле, жизнью ангельскою, полной непорочностью смертных.
Под бесстрастием, говорит он, я разумею небо на земле, где вместо звезд на тверди сияет добродетелями бесстрастный. «Красота тверди — звезды, а украшение бесстрастия — добродетели; ибо под бесстрастием не что иное разумею, как внутреннее небо ума, для которого демонские злоухищрения то же, что детские игрушки» (§2).
В собственном смысле «бесстрастен тот, кто плоть сделал нерастлеваемою, ум возвысил над тварью, покорив ему все чувства, и лицу Господню представил (всю свою) душу, которая непрестанно даже и как бы сверх сил своих устремлена к Богу» (§ 3).