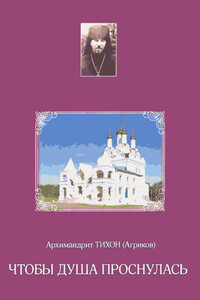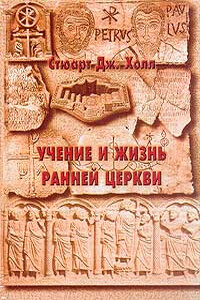Преподобный Иоанн Лествичник | страница 44
«Будем со всяким трезвением трезвиться, со всею наблюдательностью наблюдать и со всякою осторожностью остерегать себя» (Слово 4, § 80), чтобы не впасть в своеволие и непослушание и не лишиться уже пройденных трудов, но постараемся показать полное послушание, ибо от послушания рождается покаяние. А покаяние ведет аскета еще выше по лествице восхождения. И преподобный учитель духовного совершенства не случайно полагает после послушания добродетель покаяния, именно на пятой степени своей лествицы, на которую, хотя и со многими усилиями, предстоит также встать ревнителю духовного делания.
Степень 5. О спасительном покаянии
Смиривши свою волю и отдав себя в полное послушание избранному отцу духовному, аскет мог бы, кажется, заняться теперь и очищением себя от всех своих греховных навыков и страстей. Однако для этого ему еще не хватает спасительного покаяния, то есть такого состояния, при котором он был бы способен к постоянному сердечному сокрушению о своих грехах, к постоянному плачу и сетованию. Тем более, что предшествующая добродетель — послушание — очень способствует подвижнику стяжать именно дух покаяния. Послушание уничтожает самообольщение, рассеянность, леность, располагает к самоуглублению и самопознанию (Слово 5, § 15-17), открывает пред человеком всю глубину его греховности и естественно вызывает покаянный плач о своих грехах.
Что же такое покаяние в понятии преподобного Лествичника?
«Покаяние есть возвращение Крещения... обещание Богу нового жития... непрестанная безнадежность в телесном утешении... Оно есть сильное утеснение чреву... и добровольное терпение всего скорбного. Кающийся есть добровольный осужденник... изобретатель наказаний для самого себя», добровольный узник, ради спасения души (5, § 1).
Говоря о покаянии как о важном и необходимом аскетическом делании, преподобный отец разумеет здесь не временное только очищение своей совести на исповеди перед отцом духовным, но постоянное сокрушение кающегося сердца о сделанных им грехах, непрестанное взывание к милосердию Божию, труды и томление плоти как наказание за прежние неправды. Преподобный представляет и живые примеры истинно кающегося. Он пишет об одной обители, называемой Темницею, в которой жили эти добровольные узники — кающиеся (5, §3-25).
Здесь они не имели ни малейшего утешения, проводили ночи без сна, стоя на одном месте и взирая на небо, издавали вопли и стенания, проливая потоки слез. Носили вретище, посыпали головы пеплом. Они глубоко чувствовали свое уничижение, сознавая себя недостойными милости Божией. Они благословляли Бога во всяком случае — отверзал ли им Бог двери Своего милосердия или не отверзал. «Ничего иного от них не слышно было, кроме вопля и стенаний: “Увы, увы! Горе, горе мне!.. Пощади, пощади, Владыко!” Одни из них вопиют: “Помилуй, помилуй”, другие — еще жалобнее: “Прости, Владыко; прости, если возможно”» (5, § 13). «Все же они непрестанно видят пред очами своими смерть и говорят: “Что с нами будет? Какой последний о нас приговор? Будет ли прощение омраченным, осужденным?”» (5, § 17). «А я, — говорит преподобный, — видя их такое покаяние, едва не пришел в отчаяние о себе, видя свою холодность и сравнивая оную с их злостраданием» (5, § 23).