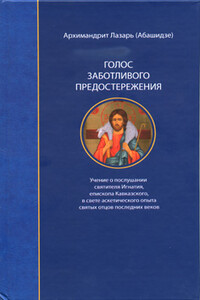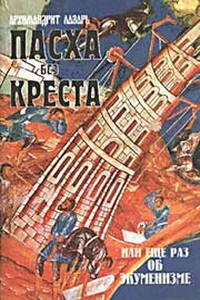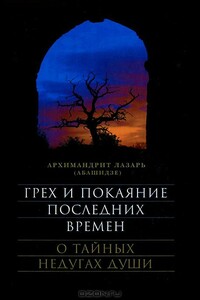Мучение любви. Келейные записи | страница 49
Именно такого рода насельники обителей вносят в жизнь их много пустой суеты и хлопот. Это они никак не могут остаться надолго на одном тихом, малопосещаемом месте, в среде разреженной и дающей возможность охладить вкус ко внешнему, развить вкус к сокровенному, внутреннему. Им необходимы обстановка сцены, декорации и, конечно же, зрители! Таким образом, в обители постоянно слышится какой-то настойчивый голос: «то€ надо», «это бы надо», «пригласить бы надо вот того», «вот владыку бы пригласить», «вот то€ бы дело надо нам сделать»,– в общем, всегда краснеет большой разинутый клюв и носятся, носятся пташки с червячками в клюве – откармливают своих же гонителей…
Талантливые чужаки
Есть такие люди, которые, казалось бы, во всем подходят для монастыря, даже как бы стройно «вписываются» в «монастырский пейзаж». На взгляд, они и талантливы, и понятливы, и остроумны, и представляются очень ценными, подходящими для дел обители. Они способны ко многим ремеслам и необходимым в монастыре специальностям и, как ожидается, могут оказать неоценимую услугу братству. Но часто это весьма обманчивое впечатление, одностороннее: картинная внешность таких вот «молодцов» вводит в заблуждение не только окружающих, но и их самих. Кажется, «ну как такому не быть монахом – вылитый монах»… За что ни возьмется, всякое дело сделает ловко и ладно. Но не так просто на самом деле с подобными «молодцами». Нечто очень важное для монашества может как раз отсутствовать у них. Гибкость, покладистость, самоотверженность реже всего встречаются у таковых. Здесь на поверхности геройство и молодцеватость, но как дело доходит до настоящего смирения, то есть до тех случаев, когда необходимо по-настоящему сразиться с собою, так они уж ни в какую. В общем, когда дело доходит всерьез до монашества, то они делаются глухими и несообразительными, упористыми и несгибаемыми, как какая-то окаменелость. «Тонкие» и «понятливые» во многих религиозных вопросах, они совершенно «тупеют», когда надо проявить смирение и отвергнуться собственного своего мудрования,– тогда они не могут распознать простейших истин, уразуметь, казалось бы, очевидных законов и понятий, без которых в монашестве нельзя сделать и шагу.
Такие люди могут без конца околачиваться по монастырям и храмам, места же себе покойного так и не обретают. Всюду им что-то не нравится, что-то гонит их, что-то беспокоит. В чем дело? Беда в том, что люди деятельные и способные к разного рода специальностям, сообразительные и энергичные во внешней деятельности, часто усваивают себе немалую самоуверенность и привычку надеяться на собственную смекалку и сообразительность, переносят это упование на свою ловкость и в область монастырских проблем, уверены бывают, что и здесь так же все запросто поймут, усвоят и скоро продвинутся вперед. Не понимают, что здесь нужно напряжение и продвижение совсем по иным принципам и в иных областях, чем это требовалось в деятельности внешней. Привычка к самостоятельности и вера в свои силы – это своего рода какой-то литой медный истукан, стоящий на постаменте в самом центре их внутреннего «я». И вот эти люди хотят всюду протащить с собой этот идол и на каждом новом месте, где бы они ни водворились, устраивают опять же служение и поклонение этому идолу. Как раз он-то и не дает им возможности нигде упокоиться и отдаться чистосердечному служению Богу. Вернее, Сам Господь не попускает такой душе успокоиться – ради ее же спасения, чтобы она не застыла, не окаменела окончательно в своем этом самоупоении. Потому им попускается срываться и впадать в разные неожиданные искушения. Пытаясь встать, они опять начинают деятельность и труд на благо обители, но как только реабилитируют себя в глазах окружающих и заслужат опять уважение, так тут же «почему-то» претыкаются и падают.