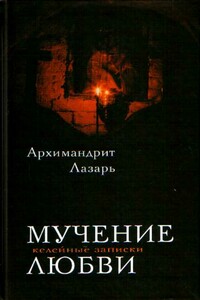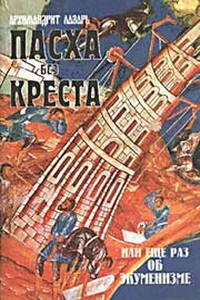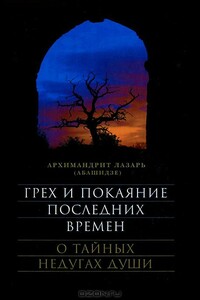Голос заботливого предостережения | страница 66
Если же, как утверждает иеромонах Доримедонт, в монашеской жизни почти весь успех зависит от самоотверженной веры послушника, а не от святости, не от степени духовного преуспеяния наставника, то никаких таких школ существовать не могло! Тогда все было бы иначе: то здесь, то там (иногда при духовных, но нередко и при самых нерадивых старцах) появлялись бы отдельные самоотверженные послушники, которые достигали бы высот духовных благодаря только высоте своего послушнического подвига. Тогда и духоносность старца, степень его духовного прозрения, должна была бы вполне зависеть от того, с каким учеником этому старцу случилось иметь дело. Обрелся послушник, вполне отсекающий свою волю, желающий видеть в лице старца духоносного отца,- и вот старец, которому выпала такая удача, весь преображается и, независимо от собственной духовной немощи, от неимения духовного рассуждения, вдруг, помимо собственной неискусности в решении духовных проблем, начинает изрекать духовные понятия, открывать волю Божию своему ученику, безукоризненно вести его по пути спасения и совершенства. Что именно так и считает отец Доримедонт, видно из следующего: он ссылается на мысль из Древнего Патерика о том, что «старцев не стало потому, что не стало послушников»[4]. Эти слова, понятые буквально, для иеромонаха «свидетельствуют о том, что предание послушания может быть восстановлено в любую, даже самую страшную эпоху… Для восстановления послушничества (а значит, и старчества) не нужно многого. «…» Нужно лишь одно: чтобы кто-то решился на смерть - смерть ради Христа, смерть, подающую умирающему о Господе вечную жизнь и блаженство»[5]. Но заметим, мысль, что «старцев не стало потому, что не стало послушников», взятая иеромонахом из Древнего Патерика, в оригинале имеет несколько иной смысл. Там повествуется о том, как братия пришли к авве Филиксу и просили его сказать им слово. Но старец молчал. Потом он сказал им: «Ныне нет слова! Когда братья спрашивали старцев и исполняли то, что старцы говорили им, тогда сам Бог наставлял их, как сказать слово, а ныне только спрашивают, но не делают того, что слышат. Потому Бог отнял у старцев благодать слова, и они не находят, что говорить…»[6]. Как видим, духовные старцы были, но поскольку именно эти вопрошавшие послушники, очевидно, страдали маловерием и неисполнительностью, то Господь не дает вопрошаемому ими старцу благодатного слова. Конечно, это не значит, что старец не мог преподать вопрошавшим общее монашеское наставление, но речь идет об особом слове, конкретном, относящемся именно к этим братьям и отвечающем на их сокровенные нужды, слове, которое требует наставления Божия. Слова аввы Филикса заключают в себе тот смысл, что Господь не открывает через отцов Свою волю тем, кто приходит спрашивать праздно, не давая цены сказанному через святых Его и не имея намерения приложить это слово к жизни. Если человек спрашивает, как ему поступить, у какого-либо отца с верой в то, что через него Сам Господь откроет ему Свою волю, но, услышав ответ, не исполняет сказанное ему, это вменяется ему в грех. «Если ты сам прибегаешь к отцу духовному, вопрошая его о чем-либо, не потому, чтобы желал получить заповедь, но для того, чтобы услышать от него лишь ответ по Богу, и он скажет, чтО следует тебе делать,- ты непременно должен исполнить сие»,- говорит святой Иоанн Пророк[7]. И святой Варсануфий говорит: «Кто вопрошает и ослушивается отцов, тот раздражает Бога»[8]. Выходит, что такой вопрошатель не Божию волю ищет, а лишь «искушает» Бога.