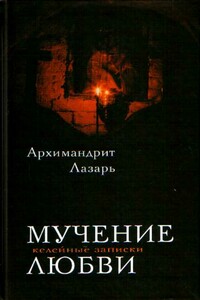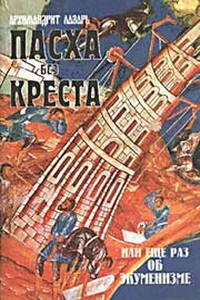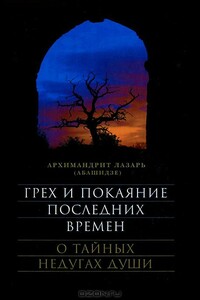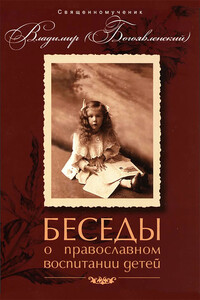Голос заботливого предостережения | страница 64
Очень много встречаем у святых отцов предостережений, относящихся и к таким ходатаям, и к тем, кто по неосторожности доверится им: «Скажи мне,- говорит святой Симеон Новый Богослов,- прошу тебя, если ты не сознаешь, чтоб был бесстрастен, и не чувствуешь, чтоб обитал в тебе бесстрастный Бог, то на что дерзая и полагаясь, взял ты на себя дела, свойственные бесстрастным, и служения, принадлежащие одним святым рабам Божиим? «…» Поостерегись браться пасти других прежде, чем стяжешь верным другом пастыря Христа, ибо ведай, что имеешь дать ответ не только за свое недостоинство, но и за разумных овец, которых погубишь по своей необученности и своей страстной жизни. Смотри, прошу тебя, не бери на себя чужих долгов, будучи сам должником, хотя бы то и небольшим долгом. Не дерзай давать кому-либо разрешение грехов его, если сам не стяжал еще внутрь сердца своего Вземлющего грех мира. Внимай, брате, чтоб не восхотел судить другого прежде, чем сделаешься верным судиею себя самого и исследователем собственных своих падений, и прежде, чем сам над собою произнесешь праведный приговор и воздашь должное правде слезами и плачем. И тогда уже, как освободишься от закона плоти и от смерти греховной и исполнишься Духа Святаго, тогда соглашайся на поставление себя благодатию Божиею в праведные судьи для суда над другими…»[7]. Блаженный Феофилакт писал: «…кому бы то ни было прежде нужно землю возделывать, а потом уже принимать в руки и пастырскую должность. Кто хорошо возделал свою плоть, как бы какую землю, тот достоин быть и для других пастырем. Ибо кто не умеет собственным домом управлять как следует, тот как будет пещись о Церкви (см.: 1 Тим. 3, 5)? Итак, прежде возделай самого себя и тогда уже других паси…»[8]; «…Ученики Иоанновы следуют за Христом и идут к Нему после того, как Он сошел с горы и вынес искушение. По моему мнению, такое сочетание событий показывает, что никому не нужно вступать в звание учителя прежде, чем он взойдет на высоту добродетели… победит всякое искушение и будет иметь знак торжества над искусителем»[9].
Но вернемся к иконам: действительно, человек, с верой молящийся перед иконой, написанной недостаточно художественно или даже вовсе неканоничной, может быть услышан. И через такую икону может произойти чудо по вере молящегося, как через разбойника Флавиана исцелилась слепая, уверовавшая, что перед ней святой старец[10], или как некая блудница воскресила молитвой умершего младенца, принужденная к этой дерзновенной молитве его матерью[11]. Но, по слову святителя Игнатия, «такие события - исключения. Созерцая их, мы поступим правильно, если будем удивляться смотрению и непостижимым судьбам Божиим, укрепляться в вере и надежде; поступим очень неправильно, если будем эти события принимать в образец подражания»[12]. Если же захотим обобщить подобные случаи (к примеру - случай с Флавианом), то должны будем сделать вывод, что выбор старца вообще не имеет никакого значения, что можно избрать в духовные наставники любого человека, пусть даже разбойника, все дело только в самоотвержении. Но ведь если и возможно преуспеяние и спасение при нерадивом и страстном наставнике, то лишь в том случае, когда послушник богат духовным рассуждением, знаком с опытом других духовных наставников, руководствуется писаниями святых подвижников, иногда общается с действительно духовными монахами, как мы видели это в житии святого Акакия и в других описанных выше случаях. Однако иной раз икона, написанная не в православной традиции, изображенная душевно, чувственно, может мешать молиться, создавая фальшивое настроение, навязывая предстоящему ложное понятие о Боге или о святых. Особенно такой вред способны производить картины, претендующие на наименование икон, написанные в стиле западной, весьма чувственной и страстной живописи (а такие изображения можно видеть и сегодня во многих православных храмах). В XIX веке для писания таких «икон» художники иногда приглашали даже натурщиков. Святитель Игнатий рассказывает, что один кучер, «видный, но очень ограниченного ума», признавался ему, что с него написано множество икон. «…Вот причина глупых глаз на иконе,- замечает святитель,- она - верный портрет статного кучера с глупыми глазами»[13]. Что-то подобное может происходить и тогда, когда душевный и чувственный человек примет на себя роль духовного старца, а несчастный ученик в лице его (на котором отражаются страсти не уврачеванной еще, не убеленной благодатью души) будет стараться усмотреть образ Самого Христа. Святитель Игнатий говорит далее: «Иконописец должен твердо знать догматы Православной Церкви и вести жизнь глубоко благочестивую, потому что назначение иконы - наставлять народ изображениями. Посему иконы должны сообщать понятия истинные, чувствования благоговейные, точно - благочестивые. В противном случае икона будет действовать так, как бы действовал с кафедры проповедник, зараженный лжеучением…»[14]. И как лжедуховный старец, добавим мы.