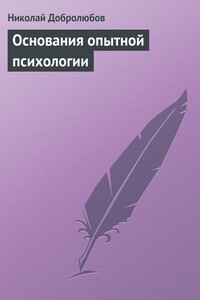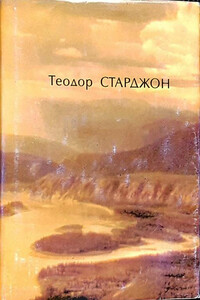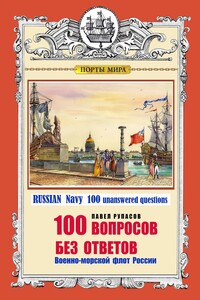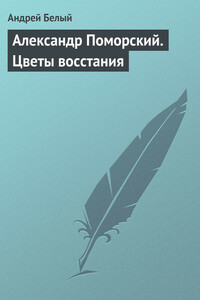Политика & Эстетика. Коллективная монография | страница 29
Известно, как эпатировали благонравную публику «Цветы зла», но ведь автор практически с первых же строк настраивает читателя именно на такое восприятие книги, откровенно и прямо, рискуя, а скорее стремясь шокировать того, кто будет читать его стихи. Вместо уважительного или даже льстивого, угодливого обращения к «просвещенному читателю» («проницательному», «добропорядочному», «благонравному» и т. п.) – обращения, которое служило традиционной уловкой авторов, ищущих читательского расположения, – Бодлер взывает к «лицемерному читателю», подчеркивая при этом, что и сам нисколько не претендует на роль праведника и моралиста. Он говорит о «наших» пороках, самым большим из них дерзко объявляет не общепризнанные семь смертных грехов, а скуку, тоску, с которыми не совладать: «C’est l’Ennui! – l’oeil chargé d’un pleur involontaire…» («Это скука, исторгающая из глаз невольные слезы»). Собственная погруженность в мир порока акцентируется завершающими словами вводного стихотворения «Au Lecteur» («К читателю», в переводе В. Левика – «Напутствие»): «Лицемерный читатель, мой брат, мой двойник» («Hypocrite lecteur, – mon semblable, – mon frère»). Все это – штрихи к портрету автора, пренебрегающего спасительной маской «как все», выставляющего напоказ свои чудачества и провоцирующего своими стихами удивление, недоумение, раздражение, даже праведный гнев.
Некоторые современные биографы Бодлера118 говорят о подсознательном желании или даже сознательном намерении поэта вызвать скандал вокруг своей книги. Именно в таком духе ими интерпретируются многие факты истории публикации «Цветов зла», и это приводит их к выводу:
В конечном счете, назвать Бодлера невинной жертвой процесса (скандала, который должен был стать «основанием успеха») невозможно. Он догадывался – а то и знал наверняка, – на какой риск идет, тем более после суда над Флобером и другими авторами. Он хотел суда над собой – по крайней мере, бессознательно. Им двигало желание таким образом создать себе репутацию – в чем он и преуспел. Кроме того, им двигал мазохизм, помогавший ему чувствовать себя не похожим на других, а именно это чувство лежало в основе его дендизма. Он так же не стремился избежать процесса, как не стремился в 1844 году избежать установления над собой опеки119.
Тривиальному взгляду все это видится лишь позой оригинала, заслуживающей если не осуждения, то по крайней мере насмешки. Сам же Бодлер подобные проявления творческой личности, в силу ее неординарности отчужденной от «нормальных» людей, связывает с высоким искупительным страданием, которое должно служить исцелению «нечистого» мира: