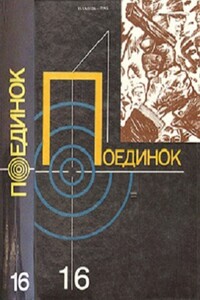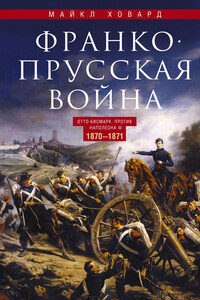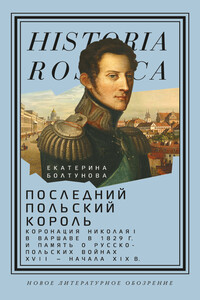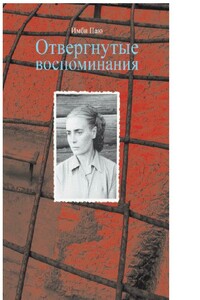Эпизоды одной давней войны | страница 58
Теодат воспринимает все сказанное стоически. Его не разрывает радость, страсть, но пусть она его тоже постарается понять. Философ - человек странный, а наука - то же самое пьянство. Заниматься писательством - все равно что, напившись вечером и проснувшись утром с больной головой, к обеду уже вовсю пьянствовать вновь, и так каждый день. Годы такого злоупотребления разрушают человека, делают странным, то, к чему все относятся серьезно, для него часто оказывается пустяком, казалось бы, полнейший пустяк вызывает глубокие длительные размышления. Он взвесит все услышанное им и постарается в скором времени дать ответ, но пока ничего не обещает. Там, где не надо бы думать на его месте, он основательно подумает в силу названной выше странности. Главной заботой, камнем преткновения являются годы, проведенные в уединении, в добровольном затворничестве, самоизгнании, когда все внешнее людское презиралось им как пустое, как суета. Теперь он находится во власти прежних ориентаций, и ему нужно немало сил для приобретения иных - первое.
Второе: времена древних мужей, которые все могли, прошли безвозвратно. Остается только вздыхать и завидовать им, их работоспособности и всеядности. Возможно, через сколько-то колен человечество вернет себе былой блеск, былую красоту, величавость, выработает в себе новых гениев, которые окажутся не только новыми вариантами античных образцов, но и новыми образцами античности следующего цикла. А пока так: или ты литератор, или ритор, или чиновник, или инженер, или обыкновенный карьерист. Или пишешь и только пишешь, или клеймишь и линчуешь рабов и только, или воюешь в Африке, в пустыне, неизвестно с кем, наверное, с самим богом, или считаешь, или разрезаешь пополам - вдоль и поперек - трупы, или... вот как он. Обнять много дел нельзя, в своем деле, внутри своего дела, можно обнять другие дела, их формулы, их крошечные содержания, входящие в содержание твоего большого дела, даже нужно для его пользы, для стремления к одной вершине, к одной, но не многим. Почему так, он не возьмется объяснить, много оправданий, но именно оправданий: наука наших дней строга к избранникам и признает с ними только моногамные браки, и никак не полигамные.
Ученый потихоньку пробуждается от спячки, утро не лучшая часть дня, но он набрал высоту и может философствовать ни о чем, сколько она станет его слушать. Довольно. Амалазунта, хотя и уязвлена его инфантильностью, все же считает визит удачным. Сделка состоится. Он даст согласие - почти уверена. Поупрямится, поумничает и даст. Он действительно тяжеловат на подъем, обладает сильной инерцией покоя, его трудно сдвинуть. Но теперь, придя в свой кабинет, он не сможет по-прежнему смотреть на его стены, не сможет по-прежнему рыться в пыли, мысли примут совсем другой оборот, нужный ей, Амалазунте, и больше никому. Ослепнув от перспектив, бросится из надоевшей комнаты вон, почувствует вдруг смрад, духоту; продышав там десятилетия, не сможет вздохнуть и раза после ее слов, подъюлит к ней и станет тем, кем она его сделает, И тут нужно набросить ему на шею хомутик, маленький хомутик из тонкой, невесомой, но очень прочной шелковой нити. Сейчас рано, сейчас его надо приручить, чесать ему за ухом, а потом - хомутик.