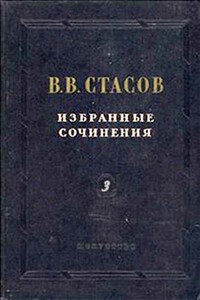Значение Островского в нашей литературе | страница 7
Конечно, въ "Борисѣ Годуновѣ" захватъ гораздо шире. Стоитъ припомнить только заключителныя слова этой великой эпопеи это глубокознаменательное: "народъ безмолвствуетъ", чтобы понять какое значенiе народный поэтъ придаетъ этому безмолвствующему народу. А главное то, что этотъ народъ составляетъ фонъ, основу всего эпоса; онъ, хотя и вездѣ осязательно, – главное дѣйствующее лицо въ ней. Скажутъ, что многiя мѣста у Островскаго колоритнѣе, напр. даже самый языкъ – Богъ знаетъ такъ-ли![2] Припомнимъ отца Пимена, разсказъ патрiарха о чудѣ у гроба царевича Димитрiя, наконецъ Юродиваго, который поглубже изображонъ, чѣмъ юродивый Островскаго. А польскiе паны, а Марина! И у каждаго свой языкъ; свой свойственный колоритъ. Притомъ колоритность не главное свойство. И Рафаэля упрекаютъ въ недостаткѣ колоритности, а тѣмъ не менѣе онъ величайшiй живописецъ-художникъ, а не колоритный Тицiанъ. Кстати: Если кого изъ поэтовъ можно сравнять съ Рафаэлемъ, то ужъ конечно Пушкина. Въ душѣ Пушкина носился высочайшiй идеалъ нравственной красоты. Конечно, независимо отъ главной ошибки Островскаго, въ его хроникѣ остается много прекрасныхъ подробностей, напр. сцены съ Марьей Борисовной.
И не только съ "Борисомъ Годуновымъ" нельзя поставить на равнѣ "Кузьму Минина", но даже съ 3-мъ и 4-мъ актомъ "Псковитянки" Мея. Эти два акта безъ сомнѣнiя можно разсматривать, какъ одно генiальное цѣлое, какъ трагедiю о "Послѣднемъ Вѣчѣ." Вотъ гдѣ народъ является живымъ лицомъ, со всѣми своими великими достоинствами и недостатками; то выростающiй въ грознаго мужа, то слабый, какъ ребенокъ. И что самое главное: народъ у Мея есть фонъ, основа, и на этой-то основѣ, какъ узоры ткани, встаютъ образы и смѣлаго Михайлы Тучи, его товарища Четверки и всей скопляющейся около нихъ вольницы, и стараго посадника Михайла Илларiоновича, съ его безнадежно-грустной рѣчью, и слабаго князя Токмакова. И всѣ эти выдающiяся изъ народа лица кровными, органическими нитями связаны съ нимъ; видно почему народъ