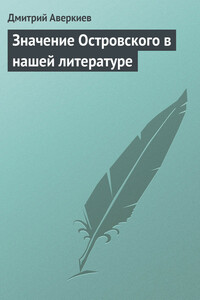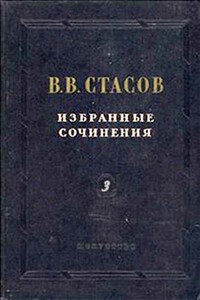Текущая литература | страница 17
издавать Байрона, но нѣтъ средствъ даже посредственно переводитъ. И выходитъ, что лучше быть хорошимъ издателемъ, чѣмъ плохимъ переводчикомъ. Вмѣсто своего плохого перевода, г. Гербелю приличнѣе-бы помѣстить стихотворенiе Полежаева «Валтасаръ»; хотя это и не переводъ, но оно вѣрнѣе передало-бы впечатлѣнiе Байрона, чѣмъ такъ называемый переводъ «русскаго поэта» г. Гербеля.
Скажемъ теперь о другихъ переводахъ первыхъ двухъ томовъ этого изданiя; между ними есть очень хорошiе, напр. «Шильонскiй узникъ», «Паризина», «Мазепа». Если не всѣ они сдѣланы равно удачно и иногда не совсѣмъ точно передаютъ подлинникъ, – то во всѣхъ найдутся вѣрно схваченныя и прекрасно переданныя черты Байроновой поэзiи.
Переводы г. Зорина (Сарданапалъ и Двое Фоскари) сдѣланы весьма добросовѣстно. Мы можемъ только сожалѣть, что они сдѣланы не въ прозѣ. Стихъ у г. Зорина, пожалуй, и правильный, но по большей части вялъ и прозаиченъ. Вотъ почему, не смотря на вѣрность и добросовѣстность перевода, онъ читается нѣсколько тяжело. Нѣтъ этого непрестаннаго одушевленiя, нѣтъ той причудливой восточной изнѣженности, которая по временамъ слышится въ стихѣ Байронова Сарданапала. Но во всякомъ случаѣ такими переводами, какъ г. Зорина, брезгать нельзя. Если-бы весь Байронъ былъ такъ переведенъ, какъ Сарданапалъ и Двое Фоскари, то не только тужить было-бы не о чемъ, а напротивъ – радоваться слѣдовало-бы.
Но вотъ выходитъ третiй томъ и въ немъ – «Чайльдъ Гарольдъ» въ переводѣ г. Минаева. Къ этому-то тому собственно и относится заглавiе нашей статьи. Отличились оба, и переводчикъ и издатель. Если переводы г. Гербеля представляютъ пародiю на Байрона и только смѣшны, – то переводы г. Минаева… Но скажемъ нѣсколько словъ объ этомъ дѣятелѣ россiйской словесности, дѣятелѣ весьма плодовитомъ, но можетъ быть не вполнѣ извѣстномъ нашимъ читателямъ. Спецiальность музы г. Минаева – обличенiе; сперва онъ обличалъ г. Камбека, водопроводы, рысаковъ, – а потомъ обличилъ тѣхъ, кто обличалъ г. Камбека, водопроводы и рысаковъ. Такимъ образомъ его можно назвать самообличоннымъ обличителемъ. Г. Минаевъ объявилъ однажды, что пушкинскiй стихъ теперь общее достоянiе, – но это не мѣшаетъ ему писать стихи, гдѣ невѣрные эпитеты, плеоназмы и грамматическiя ошибки на каждомъ шагу, а также уснащивать свои вирши частицами «вѣдь, ужь, лишь» и тому подобными пособiями плохихъ стихотворцевъ. Далѣе – г. Минаевъ пародировалъ всѣхъ русскихъ поэтовъ отъ Пушкина до г. Плещеева, – но обыкновенно выходило, что его пародiи болѣе походили на печальныя подраженiя какой-нибудь плачевной музы, чѣмъ на пародiи. Случалось ему и самому сочинять стихи, но – увы! эти стихи скорѣе походили на плохiя пародiи, чѣмъ на самостоятельныя излiянiя глубокогражданской поэзiи. Его эпиграммы переносятъ насъ въ первую четверть текущаго столѣтiя и по большей части представляютъ перифразъ слѣдующаго общеизвѣстнаго четырестишiя: