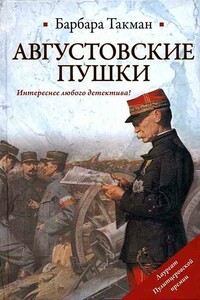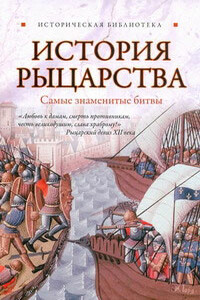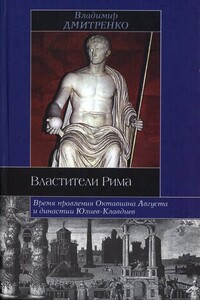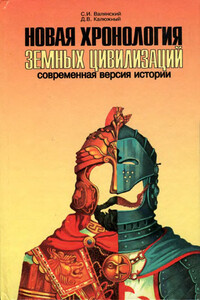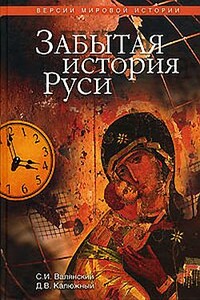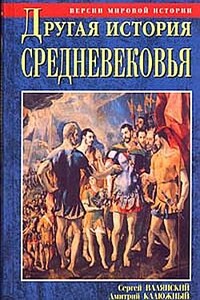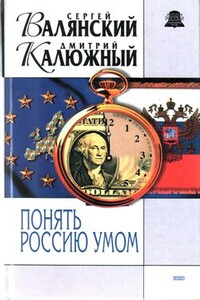Четыре встречи. Жизнь и наследие Николая Морозова | страница 50
Таким образом, в первичных христианских социализациях стремление к эволюционной справедливости, т. е. к справедливости, принимавшей во внимание интересы не только живущего в данный момент, но и всех последующих поколений, не могло даже и возникнуть вследствие представления, что жизнь вселенной закончится вместе с ними. При воображаемом «последыш-ном» существовании действительно самым справедливым представлялось тогда, да и теперь представляется, отдать свою вторую рубашку неимущему и так дожить свой век, тем более что в будущей загробной жизни за это обещается и соответствующая «личная» награда, т. е. уже нечто совсем не социалистическое, а индивидуальное. Таким образом, даже сам унаследованный душевный эгоцентризм являлся здесь не только возбудителем, но и укрепителем практики уравнительных стремлений. В нем были все стимулы прочности таких коммун, но в нем же скрывался и стимул их естественной смерти, вследствие бесплодия монахов и монахинь.
В остальной же, менее фанатизированной религиозно, части христианского населения этот монашеский коммунизм никогда не прививался, вследствие противодействия ему естественного влечения полов друг к другу и появления на свете детей, забота о которых не позволяла раздавать взрослым все свое имущество до последней рубашки. Но и эта бережливость тоже вырабатывалась чисто инстинктивно.
По ограниченности умственного кругозора не только монашествующая, но и семейная часть населения не могла тогда развиться до понятия об эволюционной справедливости, которая говорит современному научно развитому человеку: пусть лучше будет имущественное неравенство и разделение общества на классы в нашем поколении, если эта временная неуравновешенность оказывается единственным средством привести к общему улучшению условий жизни всех бесчисленных будущих поколений. Зародыш этой мысли был уже в евангельском изречении: «Лучше пострадать одному за всех, чем всем за одного», но и оно всегда толковалось не эволюционно, а только в применении к наличности уже живущих.
Такова же была по узости или полному отсутствию эволюционных представлений и следующая стадия развития социализма, заменившая постепенно вымиравший со времени эпохи Возрождения от собственного бесплодия христианский коммунизм. Попытки же его осуществления терпели еще большую неудачу вследствие отсутствия эгоцентрического стимула личной награды в загробной жизни.