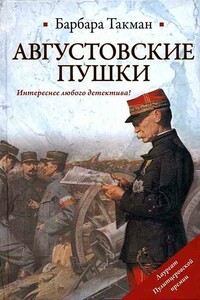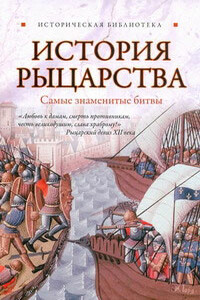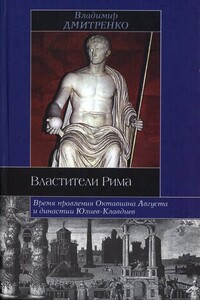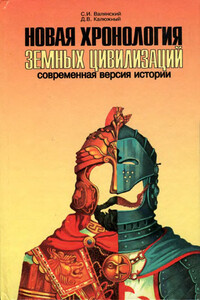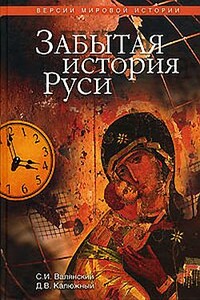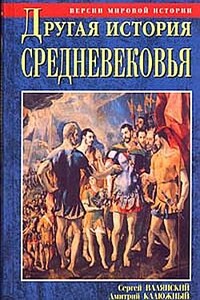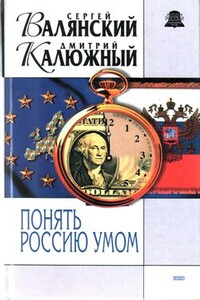Четыре встречи. Жизнь и наследие Николая Морозова | страница 13
пишет Бальмонт стопой в четыре слога с ударением на первом и четвертом, а у Марии Конопниикой и у некоторых других находим стопы и в пять слогов с двумя ударениями в каждой:
Точно так же мы, русские, язык которых гибче всех других, уже давно вышли из пределов прежних «женских» и «мужских» рифм. Мы имеем, еще со времени Лермонтова, много стихотворений с рифмами, носящими ударение на третьем слоге от конца, а теперь в помешенных здесь моих давнишних стихах вроде «Атолла», «Древней легенды», «При звездах», «Карты девушки раскладывали» или «В тени»:
и в некоторых стихах у Валерия Брюсова мы видим ударение на четвертом и даже на пятом слоге от конца…
Но параллельно такому расширению рифмовки и формы должно, повторяю, идти расширение и содержания поэзии введением в нее все новых и новых сюжетов. И с этой точки зрения можно сказать, что только тот поэт оставит о себе воспоминание в истории этой области человеческого творчества, который внес в нее что-либо новое, оригинальное, еще не разработанное его предшественниками.
ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ,
В МОСКВЕ
Обстоятельства сложились так, что Н. А. Морозову не удалось создать свою собственную научную школу. У него были помощники, но никто из них не стал его учеником, а тем более продолжателем его работ.
В 1907 году Петр Францевич Лесгафт пригласил бывшего шлиссельбуржца работать в свою С.-Петербургскую биологическую лабораторию. Здесь Н. А. Морозов читал лекции по химии и астрономии в Высшей вольной школе, открытой при лаборатории, и занимался теоретической доработкой тех проблем, над которыми начал трудиться еще во время своего долгого заключения. В это время у него были ассистенты, помогавшие ему при решении лишь технических вопросов, они участвовали в основном в проведении различных расчетов. Возможно, со временем они вникли бы в те проблемы, над которыми работали вместе с ученым, и стали бы его активными сотрудниками. Но этого времени не было. Сначала война изменила обычный ход вещей, а затем революция поменяла весь быт. С началом разрухи Морозову поступил ряд предложений заняться наукой в другом месте, но он решил остаться в Петрограде и попытаться выжить вместе с С.-Петербургской биологической лабораторией, директором которой его избрали зимой 1918 года.