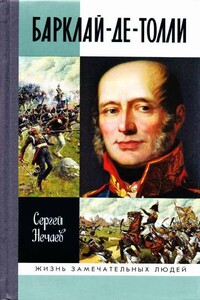Когда мне было 19 | страница 69
Тот самый неугомонный прапорщик Кравчук познакомил нас с двумя сержантами — Дедовым и Сергеевым, которые теперь отвечали за нас и наши дальнейшие действия на территории воинской части. Как бы между прочим выдали нам по два «вафельных» полотенца: одно предназначалось для рук, а второе — для ног. Вкратце рассказали нам о военном уставе, не двусмысленно намекнув, что теперь он станет нам, как «Букварь» для первоклашки. Уши никак не могли привыкнуть к высокомерному и громогласному «разойдись!» перед парой минут спокойствия. Осматривая помещение, ребята знакомились друг с другом, радовались первым часам воинской службы. Я же, унывая, подошёл к окну, и, растворившись за белой ажурной занавеской, с печалью глядел на медленно летающий редкий, но пушистый снег. В руке уже давно прикипел мобильный телефон. Я почти мечтал позвонить кому-нибудь из родных мне людей и пожаловаться на свою жизнь, но по-прежнему этого не сделал. В тяжких думах ожидать час новых испытаний — мой удел.
Уже вечером, в комнату зашёл старший лейтенант Казистый — сущий кошмар бытия моей «новой жизни». Что тут началось — и словами не передать!
Построил он нас и с кровожадным прищуром стал осматривать наши тумбочки. Разговаривал старлей на «западенском» языке (помесь русского, украинского, польского и своеобразного диалекта Западной Украины). Я ни слова не мог понять. Что такое «Вариш», «Крумплі» или «Вивірка»? Как, вы не знаете? Вот и я тоже. Один солдат на выходе из казармы мне сказал:
— Дитвак! Дай шваблики!
Я отморозился и в задумчивости пошёл к плацу, перебирая в уме все известные мне слова, похожие на сказанное. А служивый просил спички…
Розовощёкий лейтенант остановился возле тумбочки Љ112 и, заиграв желваками, указал на неё толстым пальцем.
«Это ведь моя…» — в ожидании очередной нецензурной брани и критики произнёс я про себя.
— Ну, и какой хер здесь умостил свои поганые вещи? — произнёс старлей, порывшись в моей тумбочке, будто ищейка из ФСБ.
— Я! — выскочило с языка строка уныния.
Я выглядел растерянным «хером, который умостил свои поганые вещи». Будущее стало туманно проясняться, а паранойя тонко намекнула, что моим увольнительным наступает конец.
— Чья это тумбочка, вашу мать? — повторил он, превращая свою «сердитость» в «ярость».
— Моя! — вышел из шеренги я, так и не посмотрев в его глаза.
— Ах, твоя? — ехидно переспросил старлей, тряся вторым подбородком. — А ну-ка, валет, подойди сюда!
Уныло и с опаской я послушно выполнил приказ.