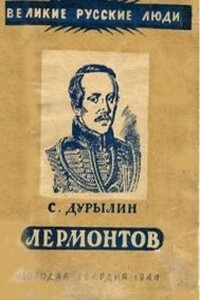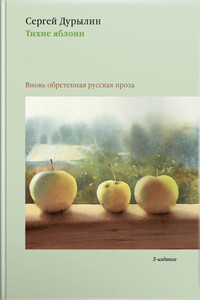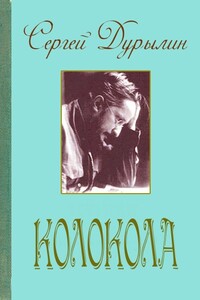и что были годы, когда эта радость была всегда с ней. Лишь однажды, помню, когда я, юноша, лежал, прихворнув, в своей комнате и полудремал, до меня донесся из столовой разговор мамы с нашей няней, пришедшей к нам погостить из богадельни. Разговор велся тихо, чтобы не разбудить меня. В доме никого не было. Разговор этот меня поразил, ужаснул, заставил укрыться с головой одеялом, а между тем в нем не было укора, а было только седое, всколыхнувшееся из глубины горе. Мама рассказывала няне, как она там, на Болвановке, целыми вечерами и ночами сидела одна, а молодой муж пропадал где-то. «Одна»… Я представлял себе эти низенькие длинные антресоли бабушки Ольги Васильевны (я бывал там в детстве) с окнами в сад и на двор, горящую свечу в медном подсвечнике, черную ночь, смотрящую в продолговатые маленькие окна, и тоскующую, любящую молодую женщину в отчаянии, в одиночестве безысходном. А там, ниже, под антресолями, парадные пустые комнаты, залу, гостиную, диванную и в моленной с двумя божницами, с золотыми окладами икон, с двумя лампадами бабушку Ольгу Васильевну, маленькую, сухую, когда-то писаную красавицу, сгорбленную, но с длинной, до пят, черной косой… И вот одиночество и обида мамы были так горьки и так незаслуженны даже в глазах этой гордой, избалованной, эгоистичной женщины, что она позвала невестку с антресолей и приказала:
– Настя, одевайся. Надевай бархатное платье.
У Насти были слезы в глазах. Она ничего не понимала.
– Поедем. Я велела заложить тройку. Погода прекрасная. Не ему одному веселиться. Поедем ужинать за город.
И они поехали – к Яру или в Стрельну, не помню. Свекровь наблюла, чтобы невестка была одета к лицу, богато и прекрасно. Велела надеть алмазы и любовалась, как красива невестка, и хотела, чтобы любовались на нее все. У Яра она заказала самый дорогой и изысканный ужин, с заграничными винами и фруктами, чуть ли не с клубникой в декабре и с живыми цветами. Ужин стоил сотни рублей.
Учуяв это, метрдотель увивался у стола. Весь зал обратил внимание на гордую, все еще красивую старуху в черном бархате, ужинавшую с такою роскошью вдвоем с молодой красивой женщиной, превосходно и с тонким вкусом одетой, но с лицом, на котором были написаны и горе и испуг: мама боялась встретить здесь же мужа. Ей заранее было жалко его и больно за себя и за него. А ужин шел своим чередом. Дирижер оркестра к первой подходил к бабушке осведомиться, что ей будет угодно услышать, и она, вручив ему крупную ассигнацию, милостиво отвечала: