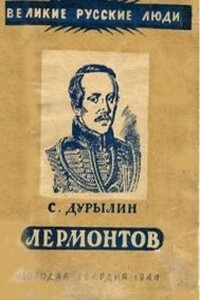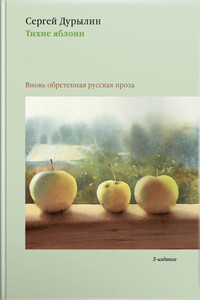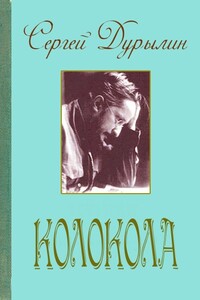В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва | страница 82
Какой памятью донесла мама до меня из своего отрочества эти ермоловские интонации, эту альтовую властность и прекрасное благородство, с каким была произнесена когда-то эта фраза юной Ермоловой? А я, как только услышал Ермолову, уже долгие годы служившую Малому театру со славой, я тотчас узнал ее голос, ее интонацию, слышанные мною от матери в раннем детстве.
Одной из последних радостей в жизни моей матери было то, что я говорил вступительное слово в концерте, где участвовала Мария Николаевна, и беседовал с нею.
Любовь к театру у меня наследственна от матери.
Я помню, как она, по желанию отца, напевала арию Антониды «В поле чистое гляжу я», помню куплеты из «Марты»:
Помню водевильные куплеты:
Помню рассказы о знаменитых балеринах, которых мама видела девочкой. Особенно ярко передавала она впечатление от Лебедевой[73]. Когда персидский шах увидел ее впервые на сцене, он воскликнул: «Это рай пророка, и я вижу прекраснейшую из гурий!» В восторге он подарил ей драгоценную шаль такой тонины, что, свернутая, она проходила сквозь алмазный перстень шаха. Шаль эту он вез в подарок императрице, но сложил у ног гурии Лебедевой, к великому конфузу приближенных[74]. Самые названия балетов – «Сатанилла», «Дочь фараона», «Катарина, дочь разбойника» – производили на меня волшебное впечатление. Самые любимые игрушки мои были «театры» из бумаги[75]. У меня шел и «Конек-Горбунок», и «Жизнь за царя». Не знаю, получил ли я их в подарок раньше или позже того, как видел в театре, но мама в первый раз «вывезла» меня в настоящий театр именно на эти спектакли.
Обрывки маминых впечатлений из волшебного мира кулис, заглушенные жизнью, горем, семейными тяготами, дошли до меня с такой радостной силой, что, конечно, они и открыли мне навсегда радостные двери в «храм Мельпомены». Это не ирония: театр Ермоловой и Шаляпина был храмом для меня, и впоследствии для меня было счастьем хоть изредка ходить туда вместе с мамой.