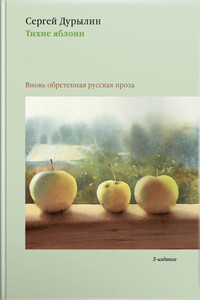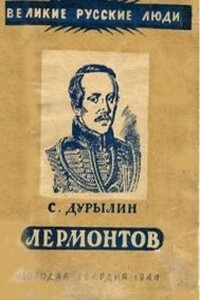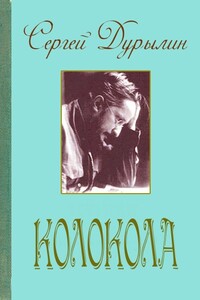В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва | страница 154
Я, толстый бутуз, заболел этой страшной тогда болезнью (ее вовсе не умели лечить) и заразил ею Колю.
Была весна. В доме нашем ходила смерть. Мама лежала больная, ожидая родов, и продолжала лежать больной, родив третьего моего брата Георгия. Я лежал в дифтерите. Тетушка Марья Васильевна, посланная бабушкой ходить за нами, также слегла от болезни. Весь дом плакал по Коле. А я выздоровел, но, должно быть, для того, чтобы не быть даже без вины виноват перед ним, я вскоре заболел вновь, и не менее опасной болезнью – скарлатиной.
Удивительное дело: как я мог выжить – такой маленький и ослабевший после дифтерита, но я выздоровел.
И Колина няня стала моей няней.
Но я уже не был тем бутузом, каким был до болезни. Я из бутуза превратился в худенького ребенка, и худоба переходила со мной неразлучно из младенчества в отрочество, из отрочества – в юность, и только годам к тридцати я стал полнеть.
Мое «младенческое» буйство бытия недолго сохранилось.
В первое лето без Коли в Кускове, на даче, сидя с няней на железнодорожной платформе, я спрашивал:
– Няня, можно этот анай амать? («Фонарь» и «сломать» я еще не мог выговорить.)
– Сломай, сломай. А вот тебя жандарм возьмет.
Но это препятствие не казалось мне непреодолимым. Я находил выход:
– А я его амаю!
Однажды – помнили мама и няня – я дошел до такого разрушительного дерзновения, что, увидев полную медно-красную луну – вероятно, в первый раз в жизни, так как рано укладывался спать, – я серьезно заявил:
– Я уну амаю!
Эти разрушительные порывы скоро увяли во мне – и увяли на долгие-долгие годы.
Лишь редко-редко няня, бывало, укорит за сломанную (большей частью не мною) игрушку:
– Ломай Иваныч!
Перестав быть краснощеким бутузом, я стал тихий мальчик. Куда девался мой первобытный «бакунизм»!
Я теперь ничего не ломал и не разрушал. Оловянные солдаты, ружье, пушки – все это было не для меня; я терпеть не мог военных игрушек; в войну, в охоту, в «диких» я никогда не играл. Когда какой-то новый гость в нашем доме подарил мне, как старшему мальчику, великолепное заграничное ружье, стрелявшее стрелами с гуттаперчевыми наконечниками (ими можно было безопасно попадать даже в зеркала и оконные стекла), я тут же, на глазах гостя, к неудовольствию мамы, переподарил это ружье брату, очень любившему воинственные игрушки. По странной иронии судьбы, на фотографических карточках меня всегда в детстве снимали с ружьем, которого я в действительности в руках не держал не только настоящего, но и игрушечного. Я никогда не был ни охотником, ни рыболовом. Мои игрушки были – кубики (я и мечтал быть архитектором), краски (я не прочь был стать и художником, и декоратором) и очень рано книги. Я никогда не ломал игрушек, и некоторые игрушки мои (например, елочные) живы были бы еще и теперь, если б их не отдали частью детям мамина воспитанника Коли Михайлова, а частью если б их не сломали дети Г. Постникова, которым их без моего ведома вынули из моего шкафа, стоявшего в их квартире. А все это случилось через 20, через 35 лет после того, как я играл в игрушки.