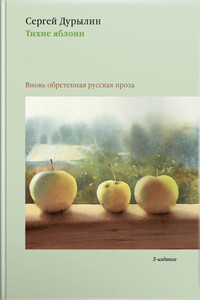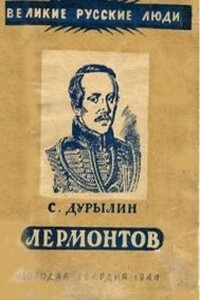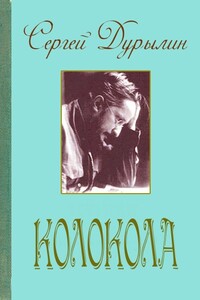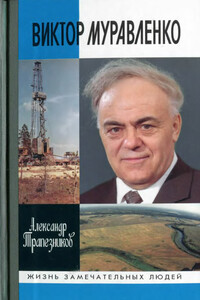В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва | страница 110
И вдруг – удар. Я был в гостях, в Михайлов день. Меня вызвали по телефону. Приехал Буткевич[105], которому она верила. Затем были Вырубов, Кабанов, молодой врач Николаев. Ничего не помогло. Она не владела языком, но была в полном сознании. С бесконечной любовью смотрела она на нас. Глаза ее и спрашивали, и говорили, и успокаивали, и ласкали, и благословляли нас. Все было в глазах. Сердце, намученное, натрудившееся сердце отказывалось биться, а глаза и душа жили еще до 9 часов вечера 11 ноября. Приехал отец Иосиф Фудель, с которым она незадолго перед тем познакомилась и сразу же подружилась, и принял ее «глухую исповедь» – исповедовались глаза, и они же сияли радостью и благодарностью, когда уста приняли Святые Тайны.
Она умерла тихо, как уснула, и лицо ее в гробу было прекрасно: спокойно, величаво и светло необычайно. Такой ушла она и в могилу (хоронили ее 15-го).
На парастас к ней последний раз в гости собралось столько народу, что было тесно в поместительной квартире. Вспомнили ее и старики, и «средовеки», и молодежь, и «неверов» было не больше ли даже, чем «веров»: все пришли к ней с благодарностью и признательностью. Не было только ни одного пасынка и падчерицы. Отпевал ее преосв. Димитрий, знавший ее еще тогда, когда был законоучителем в гимназии. Отпевал и старый, как Москва, протоиерей И. Я. Березкин от Богоявления в Елохове, когда-то венчавший ее и крестивший нас, ее духовник. Приехал на отпевание и один из зятьев с падчерицей и дивился вслух архиерею (вероятно, подумал: «Вот сколько было денег у покойницы: архиерею сотню отвалили»)[106].
И лежит она теперь на Даниловском кладбище. Рядом с сыном и мужем. Простой деревянный крест. Свой крест донесла она верой и смиреньем. И если бы и мне так донести его – и лечь рядом с нею!
Киржач 107. 9. III. 1931. Сорок мучеников[107]
Глава 2. Отец
Так мы никогда его не называли. Мы не называли его ни тятенька, ни батюшка, называли: папаша и всегда на «вы». Но когда он умер, а я остался по тринадцатому году сиротою, я испытал всю горечь безотцовства, и о тягости растить детей без отца всегда скорбела мама.
Старый дом, где я родился и где провел первые одиннадцать с половиной лет жизни, неразрывно связан в моей памяти с отцом. Это был отцовский дом в полном и точном смысле слова: им купленный, им созданный, им поддерживаемый, и немудрено, что, когда дом этот не по его вине рухнул, он умер, не прожив и году в чужих стенах[108]