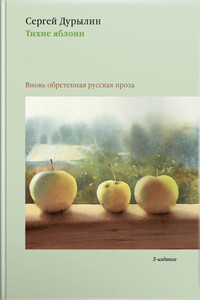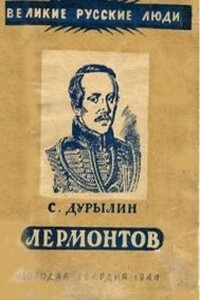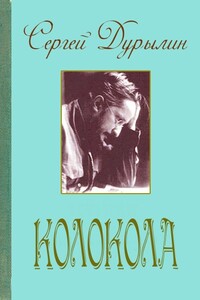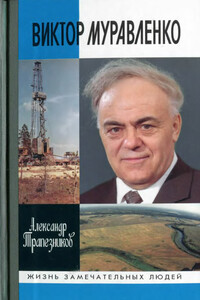В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва | страница 111
.
Отчий дом!
Многие ли могут сказать теперь, что он у них был, что в нем послышался первый шорох их бытия?
Отца я вспоминаю ярче и ближе всего вот так:
Я еще совсем маленький. Брат на полтора года моложе меня. Мы сидим за столом в детской. Горит свеча в медном подсвечнике. Няня вяжет чулок. Мы ждем возвращения отца из «города». Маятник больших стенных часов мерно и дружелюбно шагает под стеклом.
Пробило семь часов. В половине восьмого раздается звонок в передней. Это звонок отца: негромкий, нерезкий, но внятный и полный – такой доходчивый, что никогда не бывает нужды во втором. Горничная бежит отпирать дверь и помогает отцу снять енотовую шубу. Он идет в залу. В ней пусто и темно. Только в правом углу теплится лампада перед большим Нерукотворенным Образом Спасителя.
Темный Лик Спаса в серебряном венце озарен алым светом. Этот же слабый отблеск борется с темнотой в зале, но не может побороть черного треугольника, падающего от образа на пол.
Я боюсь этого черного угла. Когда няня, по желанию отца, ведет нас на сон грядущий помолиться перед Спасом, я жмурю глаза, чтоб не видать этого черного треугольника под образом. Лик Спаса строг и величествен. В нем скорбь и власть. Очи его не спящи и всегда обращены на человека.
Теперь, через полвека, мне словно слышится из уст древнего Спаса: «Бдите и молитеся, да не впадете в напасть».
А тогда, малый ребенок, я бывал обезмолвлен этим скорбным и строгим величием – и молился перед образом горячо, ни о чем не прося и забывая слова первых выученных молитв.
Но когда мне приходилось класть последний земной поклон, меня охватывала зябкая жуть. Свет от лампады казался кровавым. Точно капли крови сочились на пол от страдающего Лика. Но это было не самое страшное. Страшное был черный треугольник. Мне казалось: в нем копошится злая сила. Ей нет места там, куда проникает свет от лампады. Ее нет нигде в зале. Но в этом узком треугольнике, сжатом светом лампады, – казалось мне, ребенку, – кишмя кишит темная сила. И, кладя земной поклон, было страшно нарушить черту треугольника и нечаянно коснуться злой черноты.
Так молился перед родовым Спасом я, ребенок, худенький мальчик в русской рубашке.
Но отец благоговейно благодарил Спаса за прошедший день. Осеняя себя крестным знамением перед тем же образом, перед которым молились его отец, дед и прадед, он обретал какую-то особую бодрость и, помолившись у Спаса, начинал свой обход дома: заходил в гостиную помолиться перед «Успеньем», точь-в-точь таким, как в Киевской лавре, затем шел в комнату «молодых людей» (старших братьев), а оттуда к нам, в детскую. Перекрестившись на образа, он здоровался с нами. От него пахло морозной свежестью, усы и бакенбарды были чуть влажны от растаявших снежинок. Если все было хорошо в лавке, он говорил мне, веселый: