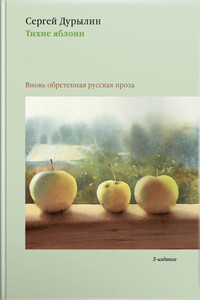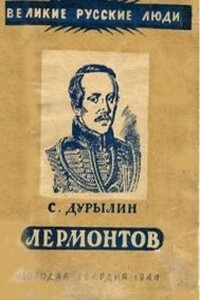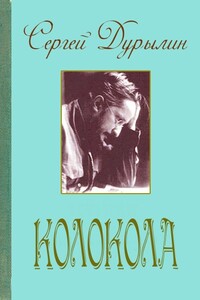В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва | страница 108
Нелегко было ее старости сносить эту юность, шумливую, безумную и слепую на всякий «труд и болезнь» старости… А она не только сносила, но и привечала.
Но схлынула и эта волна весеннего прилива.
Еще при первых отступлениях этой волны я дошел уже до отчаяния. «Я лил потоки слез нежданных»[103]. Мне противен был всякий человеческий голос, кроме голоса матери. Я знал, что давно нацелил себе в висок дуло револьвера, и даже досадовал, что кто-то невидимый не давал мне спустить курок. Теперь я знаю, кто был невидимый: мать.
Прошел буйный час прилива.
И, сам не замечая того, я начал реставрацию себя – по тому фундаменту, который был заложен ее руками, по тому чертежу строения, который был начертан ею еще над моей детской постелькой.
Я поступил в археологический институт. Я перевез ее на другую, лучшую квартиру. Я повел ее с собою в театр – в Малый, куда она не могла пойти чуть не два десятилетия и где застала еще великих актеров, в их числе подругу ее детских игр М. Н. Ермолову, в Большой на Шаляпина в «Борисе Годунове», где она все поняла и все оценила с чутьем удивительным, на «Вишневый сад» в Художественный. Я мог выписать ей ту же старую любимую «Ниву», которая получалась и на Болвановке, и в Плетешках и перестала получаться на Переведеновке.
Получив деньги за книжку о Китеже, я повез маму туда, куда она хотела, – в Оптину пустынь и к Тихону Калужскому, куда она возила меня с отцом – маленького, слабенького, худенького мальчика. В 1914 году летом я повез ее к Троице, и она вспоминала, как в трудную минуту, после смерти бабушки, она взяла меня, маленького, и уехала