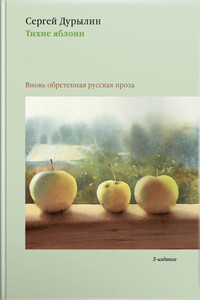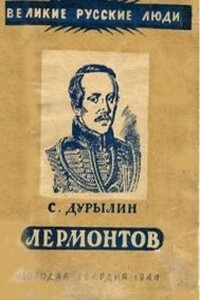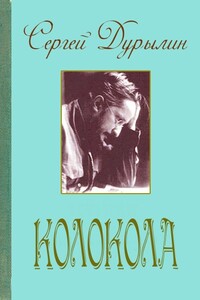В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва | страница 102
Горечь матери при отцовском разорении была тем более горька, что все эти падчерицы и пасынки всюду разглашали, что у нее большие средства, что она давно сумела обеспечить себя, и находились люди, которые прямо отказывались верить, как такая умная женщина, выйдя на семью в одиннадцать детей, за старика, не потребовала от него полного обеспечения себя и будущих детей. Я помню слезы матери, с какими она рассказывала, как один из таких мужей «пошлого опыта, ума глупцов»[97] даже оборвал ее однажды: «Да полноте, кто же вам поверит, что у вас нет средств». Это было не глумленье, а наглый комплимент своего рода: «Вы, дескать, такая умная женщина, что, и имея средства, делаете вид, что их нет».
А между тем не было не только средств, но и рубля на дневной расход после того, как отец отдал кредиторам все деньги, векселя, две лавки с товаром и дом и уплатил им полностью до копейки. На беду, он года за два до смерти перестал платить «купеческий капитал» и переписался в мещане. Это лишило нас права бесплатно учиться в коммерческих училищах, а мать лишило маленькой пенсии, которую купеческое общество выплачивало купеческим бедным вдовам.
По уходе старших детей отец прожил всего два года, тяжелобольной. Мы жили в маленькой дешевенькой квартирке, и чем мы жили, кроме продажи вещей, даже и представить себе не могу. Помню, как навестил отца бывший его приказчик Галкин, ушедший от него тогда, когда, по мнению Галкина, «сыновья стали портить отцовское дело». Отец, провожая его глазами (он лежал в постели), тихо шепнул ему: «Спасибо тебе, Нил Алексеич, за четвертную (25 рублей): вчера разменяли последнюю пятерку». Денег не было даже на леченье отца. И лечил его даром старый мамин знакомый доктор Н. И. Стуковенков, директор Голицынской больницы, человек добрейшей души. Он приезжал в еноте и бобрах, качал головой на участь отца, прописывал лекарство (да, кажется, тайком тут же и давал деньги на него). И ободрял мать, тихо плакавшую перед ним в передней, потихоньку ото всех. Помню, бывало, в сумерки мать сидит у окна, а по нашему Переведеновскому переулку с товарной станции Рязанской железной дороги непрерывно, с утра до вечера, скрипит обоз за обозом, воз за возом с мукой, с крупой, со свининой, с битой птицей, с говяжьими тушами, с дровами. Ничего этого у нас нет. Дрова на исходе. К празднику нет ничего мясного. Нет ни масла, ни яиц. И мама с тоской не удержится, вздохнет в морозяное окно: