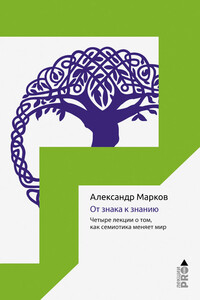Экзистенциализм. Период становления | страница 29
Для экзистенциализма характерно описывать жизненный мир человека, его непосредственные переживания, структуры его сознания, где еще нет субъекта и объекта. Я бы сказал, что экзистенциализму присущ феноменализм (не путайте с феноменологией, которая, впрочем, весьма повлияла на экзистенциальных мыслителей) – любовь к описательности, описанию дорефлексивных пластов человеческого сознания. Их интересует мир, не отделенный от человека, но данный через него, и человек не вне мира, но в мире. Через художественный образ, например описание, экзистенциалисты выходят на глубокие проблемы: от личного и конкретного – к вечному и универсальному.
Вопреки традиционной философии экзистенциалисты идут не от причин к следствию, а часто от следствий к причинам. К примеру, вы помните, как строится эссе «Миф о Сизифе» Камю? Камю начинает с очень странного и неожиданного, даже шокирующего утверждения, что главная философская проблема – это проблема самоубийства. Поясняя, он говорит, что многие люди кончают с собой, потому что их жизнь теряет смысл. То есть автор начинает с констатации: рост суицида. Потом вглубь, к причинам – а почему? Что важно для человека? И дальше – к смыслу жизни и утрате его. Феноменализм, попытка схватить дорефлексивное в человеке, описать его субъективность – вот что характерно для экзистенциальной манеры философствования.
Теперь немного и снова предварительно расскажу вам об отношении экзистенциалистов к религии. В любом учебнике вы встретите эту классификацию: экзистенциализм бывает религиозный и атеистический. Насколько это справедливо и правомерно и что это разделение нам дает? Формально это верно, но… Без пояснений здесь не обойтись.
Экзистенциализм первоначально вызрел в религиозной, иудеохристианской библейской мысли (не зря я уже упоминал библейские книги и Августина). К религиозному экзистенциализму относится абсолютное большинство экзистенциальных мыслителей: Паскаль, Кьеркегор, Унамуно, Шестов, Бердяев, Ясперс, Марсель, Бубер (и близкие к экзистенциализму Тиллих и Мунье). К атеистическому – Камю, Бовуар и Сартр. С Хайдеггером все очень сложно; его без оговорок нельзя отнести ни к одной из этих групп, не «посчитать». Он в юности отошел от католицизма, но и атеистом, конечно, не стал.
Но вот что важно сразу тут заметить. У этих двух групп – религиозных и атеистических экзистенциалистов, – несомненно, между собой больше общего, чем разного. И при этом они резко противостоят неэкзистенциальным философам – как религиозным, так и атеистическим. (Поэтому школярское, присущее учебникам разделение на религиозный и атеистический экзистенциализм мало что проясняет.) И те и другие экзистенциалисты имеют дело с ситуацией невиданной катастрофы, расчеловечивания, абсурда, дегуманизации, деперсонализации, обессмысливания. Но выходы – пути к «трансцендированию» личности из плоской бессмыслицы абсурдного существования – они ищут разные. Религиозный – через веру, атеистический – через творчество. Конечно, есть различия, но общего у них куда больше.