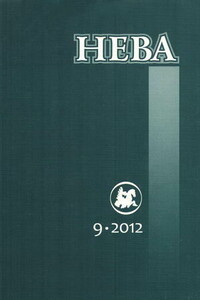Карьера | страница 18
Ему стало отчетливо ясно, что ничего из разговора с Тимошиным не выйдет! Что дела его по-настоящему плохи и надо готовиться к самому худшему. Может быть, и найдется где-то для него место, но никто сам предлагать его не будет. Его, это место, надо будет искать, выпрашивать… А может быть, просто пойти в какой-нибудь институт или техникум на кафедру иностранных языков и положить свои бумаги. Тут уж кстати будет и его степень, что он получил между делом, по умному настоянию Марины. Работы было немного, лишь классифицировать свои повседневные дела, придать им некую наукообразность и только огромное количество писанины, оформления, ссылок, перепечаток… Глядишь, сейчас степень и станет палочкой-выручалочкой. Но он знал и другое… Если его вышибли, «выбросили из тележки», то инерция этого падения будет так велика, что об этом узнают в любом институте, куда он забредет. Откажут под каким-нибудь благовидным предлогом. А может быть, и без оного, зная, что он не будет стучать по столу и качать права. Да, техникум, техникум… Это максимально! И то скорее всего где-нибудь в Подмосковье. Какой-нибудь… вроде кооперативного, например в Удельной. Да, да, там первый раз после возвращения отдыхал его отец. Тогда маленький, сгорбившийся, тихий… А может быть, он тогда просто еще не привык к отцу, не знал его. Он был для Кирилла все-таки чужим… странным. Ведь когда отца забрали, а это случилось в середине войны, Кирилл был совсем ребенок. Он помнил только его кожаное хрустящее пальто, блеск зубов, большие белые, сильные пальцы… Какой-то вагон, солнечный перрон за окнами… Возвращение из эвакуации или отъезд? Этого он не помнил!
А когда отец воскрес, то какое-то чувство злого протеста ожило у семнадцатилетнего Кирилла. Отец появился на пороге их комнаты — седой, сгорбленный, смиренный, отводящий глаза. В синем китайском, топорщившемся плаще, как ему показалось, надетом на нижнюю рубаху… Отец был словно виноват во всех бедствиях, боли, нищете, позоре его, Кирилла, болезни матери… И тем более невероятной и даже кощунственной показалась ему, Кириллу, женская сладкая слабость матери при виде этого старого, казенно-опрятного, закрытого для сыновьих и любых глаз человека, которого нужно было теперь называть отцом. И когда Кирилл попытался протестовать, убегал из дома на те часы, на которые отец приезжал к ним из Петушков (его тогда еще не реабилитировали), то мать только молчала. Он чувствовал, как ей было это больно, но был бессилен что-нибудь с собой поделать.