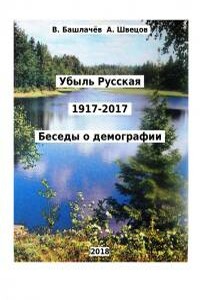Воздушные шары Сальви-Крус | страница 41
Он не ждал других писем, только от нее.
И когда письмо приходило, он веселел, он ликовал, он отрывался от земли. А потом, присев, где попало, писал ответ, и за этим занятием, не сдерживаясь и не таясь, вспоминал, мечтал, представляя себе былое и небывалое, и… тосковал. Да, тосковал, хотя то чувство тоской можно назвать с большой натяжкой. Это было нечто большее, и полней, и глобальней что ли.
Чаще же писем не было, и тогда он сердился, он грустнел, он чувствовал обвал и пустоту внутри, но сжимал зубы и не подавал виду. Только разве это можно скрыть внутри? Все же на лице написано, вот как у вас было. И тогда, остановившись перед бездной ночи, которую, он знал, ему не перемахнуть на крыльях сна, тогда он садился и писал ей письмо сам. Но иногда и писать было невмоготу, в этом случае он бросался на кровать и, вперив взгляд в потолок, затихал. Так он мог лежать — и лежал — часами, равнодушный ко всему внешнему и недоступный ни для кого. Могло показаться, что он спит, но горящий тоскливый огонь в глазах давал понять, что, если и спит, то странным, странным сном. В конце концов, лишь стоило ветру или, скажем, птице ударить по стеклу, как тотчас он вскакивал, подбегал к окну и, к нему приникнув, вглядывался вдаль. Что уж он там выглядывал, кто знает, но со стороны казалось, что взглядом он упирался в косой курган, застрявший над темным горизонтом, стараясь, будь что, стереть его отметку с неба.
Так продолжалось довольно долго, поэтому мы, его друзья, сразу же заметили, как что-то изменилось в нем и стало проявляться по-другому.
В какой-то момент он совсем уж погрустнел, да еще злой стал и вспыльчивый, мог обругать по пустякам, а когда потом его спрашивали, чего это, мол, ты, в глазах его появлялось виноватое выражение, и он искренне удивлялся, как такое с ним могло произойти.
— Что с тобой? — спрашивали его мы. — Тебя словно подменили…
— Нет, я прежний, — отвечал он, при этом улыбка его была потусторонним и ошибочным сигналом на онемевших губах. С той же улыбкой взгляд его обращался вовнутрь, и он снова возвращался в то состояние молчаливого оцепенения, из которого минутой раньше был выведен нашим вопросом. В общем, с нами он оставался только внешней оболочкой, но душа его и все помыслы находились в ведомой лишь ему стране грез. «С нами» означало лишь то, что тело его было рядом. Можно было подойти, потрогать его рукой, можно было докричаться до него и даже поговорить с ним, но с таким же успехом можно было пообщаться с деревом.