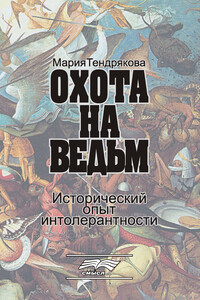Антропология детства. Прошлое о современности | страница 56
В интервалах между церемониями или во время последних месяцев уединения перед окончательным возвращением в лагерь неофиты ведут совершенно самостоятельный образ жизни, охотясь и обеспечивая едой себя и своих наставников, или совершают продолжительные охотничьи походы, возглавляемые взрослыми мужчинами. Но всё это никак не обучение азам охотничьего дела, а, скорее, отточка мастерства и экзамен на выживание в экстремальных условиях. Обычно к 8–10 годам (то есть ко времени начала инициаций) мальчик-абориген уже владеет прожиточным минимумом охотничьих приёмов и может, путешествуя в окрестностях общего лагеря с компанией приятелей, прокормить себя в течение нескольких дней (Hernandez 1941).
В принципе то же самое можно сказать и о внушаемых наставниками нормах племенной морали. В такого рода традиционных обществах от детей нет никаких секретов, кроме религиозных (Берндт, Берндт 1981: 115), большую часть правил поведения мальчик узнаёт задолго до посвящения.
Получается, что то, что принято подразумевать под воспитательным аспектом обрядов инициации, присуще не только им. Но в контексте посвящения уже известные знания и навыки представляются неофитам в новом свете, связываясь с переходом их в новый социальный статус и с открывающимися таинствами.
С началом инициаций всё, что успел освоить ребёнок, наполняется сокровенным смыслом и становится основой дальнейшего «историко-мифологического» образования, доступного только посвящённым.
В контексте посвящения, в свете деяний тотемических героев и событий мифического прошлого, нормы поведения, племенная мораль, мастерство в охоте или в изготовлении орудий — всё это представляется как то, что санкционировано Временем Сновидений и является частью установленного миропорядка. И дубинка наставника, которой поучают нерадивых неофитов, оказывается не простым куском дерева, а воплощением палки-копалки, которую несла на плечах во время своего путешествия мифическая женщина Мамандабари (у валбири см. Meggitt 1966: 304).
Говоря об инициациях, нельзя игнорировать тему испытаний и боли. Именно они зачастую связываются с воспитанием выдержки, силы воли, самообладания и, таким образом, представляются как главное содержание обрядов инициации (Токарев, 1964: 213–218; Субботский 1981: 42–47). Но многое противоречит этой трактовке.
Во многих племенах требование стойко терпеть боль либо отсутствует совсем, либо соблюдается довольно формально. У аранда позором считается плакать во время обряда обрезания или подрезания (Spenсer, Gillen 1968: 246; 255). У мурнгин мальчиков, чтобы они не кричали в момент обрезания, специально заставляют зажать в зубах корзину, тем не менее они кричат изо всей мочи, но это не обесценивает ни самой операции, ни всего посвящения (Warner 1958: 287). В обряде выбивания зуба у мурринг в случае, свидетелем которого был Хауитт, один из посвящаемых абсолютно ничем не выдал боли, его похвалили, а другой, чей зуб поддался не сразу, кричал и сопротивлялся (старшие сказали, что всё это от того, что он слишком долго был с женщинами), но несмотря на диаметрально различное поведение, посчиталось, что оба мальчика прошли этот обряд и могут следовать дальше по пути посвящения (Howitt 1904: 542).