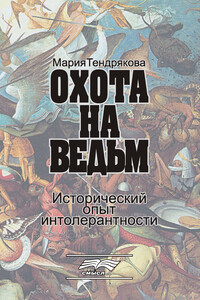Антропология детства. Прошлое о современности | страница 48
Тернер вводит понятие «лиминальной личности»: для лиминальной бесстатусной личности отменяются все принятые нормы поведения, все «можно» и «нельзя» изменяются вплоть до противоположного значения (Тернер 1983: 234–236). Неофиты оказываются в положении существ асоциальных, изгоев, пребывающих вне закона, в крайней степени это проявляется в том, что в некоторых обществах в этот период им позволяется безнаказанно красть и грабить (Stanner, 1959: 112; Stanner 1960: 107–110; van Gennep 1960: 114–115). Конечно же, «статус бесстатусности» предполагает свои правила поведения, свои нормы, но это другие правила и нормы. Вышеупомянутые образы временной смерти и путешествия в страну предков объясняют символику этого этапа и инверсию некоторых действий. (О символике «антиповедения» как «отказе от принятых норм и обращение к прямо противоположному типу поведения» см. подробнее Успенский 1994).
Создаваемая в инициации «пустыня бесстатусности» становится той психологической почвой, на которую «прививаются» новые знания, ценности, смыслы и социальные нормы. Содержательным источником этой «новой» ценностно-смысловой реальности становятся эзотерические знания, к которым инициации открывают доступ. Главные откровения приходятся именно на эту лиминальную фазу обрядов инициации. Сакральные знания, полученные как опыт запредельного, открываются как новое измерение мира или новая «система отсчёта», позволяющая иначе понять то, что было известно раньше.
Связь путешествия в страну предков, получения дара и новых, недоступных простым смертным, способностей отчётливо проступает в волшебных сказках, которые, по предположению В. Я. Проппа, выросли из первобытных инициаций, являясь особой формой их осмысления и переосмысления в различные исторические эпохи. Волшебные сказки в своей основной сюжетной линии следуют структуре инициационного обряда, выделяя и трактуя в соответствии с определённым историческим контекстом различные его элементы (Пропп 1986: 22–25, 93–106). Так, например, идея получения посвящаемым магических способностей, которыми наделяется или непосредственно сам неофит (узнав некие таинства) или «дух-покровитель» (guardian-spirit), обретаемый в ходе посвящения, в сказке принимает вид волшебного дара, который получает герой от какого-нибудь персонажа, воплощающего «тот свет» (яги, благодарного мертвеца, умершего родителя…) (Там же: 105–107,146–201).
Но независимо от того, в каком образе предстаёт обретаемый дар — магические песни, танцы, церемонии, дух-покровитель или кольцо, кукла, конь-огонь, орёл — ему, дару, всегда отведена роль быть посредником между миром живых и миром мёртвых. Эти дары видятся в неразрывной связи с благополучием живых людей, они могут повлиять на ход событий, обеспечить благоденствие, защитить и уберечь от беды, помочь в непосильном деле… Их сила черпается из потустороннего мира. В этом смысле страна мёртвых и в волшебных сказках, и в обрядах инициации представляется как хранительница этого мира. Посвящаемый неофит должен преодолеть все опасности, связанные с временной смертью, с магической силой священных предметов и духов для того, чтобы, приобщившись к этому сакральному миру, обращаться к нему как к источнику жизни.