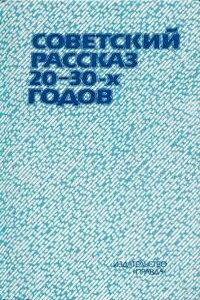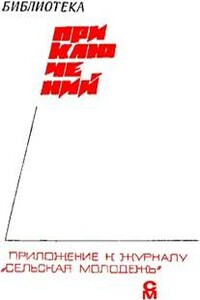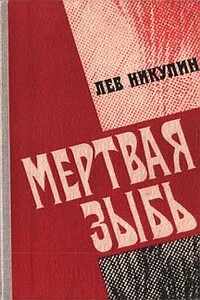Записки спутника | страница 43
Да, многое показалось бы странным моему современнику, призывнику 1931 года, если бы в десятилетнем возрасте он умел разбираться в событиях 1920 года. Ему показалось бы странным выступление делегата на конференции работников искусств, протестовавшего против постановки антирелигиозных пьес, и другого делегата, протестовавшего против посылки работников просвещения на работу в Кронштадт. А мы иногда должны были сдержанно, соблюдая политический такт, дискуссировать по таким вопросам и проблемам, которые в наше время уже не вопрос и не проблема.
Но я опережаю события.
Я ехал в Москву в поезде петроградских делегатов, отправляющихся на восьмой Съезд советов. Это было интересное и, к сожалению, короткое путешествие. Ночью никто не спал, и трудно сказать, о чем только ни говорили в нашем вагоне: о тепловозе Махонина, о стратегии генерала Вейгана в польскую компанию, о расхлябанности аппарата Петрокоммуны, о Шаляпине в роли «Еремки», о мировой революции, о стихах Маяковского. Громов, тогда начальник политотдела Кронбазы, говорил о междупланетных сообщениях. Из соседнего вагона в превосходном настроении пришла Лариса Рейснер. Она только-что вылила на голову Зорину стакан воды (это надо понимать в буквальном смысле) в отместку за шутку, которая ей показалась обидной.
Я переживал некоторое волнение, потому что вез в Москву свою пьесу. О ней следует вспомнить только по следующему поводу. Это объемистое сочинение было целиком написано на оборотной стороне аннулированных нефтяных облигаций. Я читал эту пьесу совету театра революционной сатиры, и Демьян Бедный обратил внимание на это обстоятельство. В это время была острая нужда в бумаге, и нам выдали эту некогда ценную бумагу. Пьеса, откровенно сказать, была плохая, и она сгорела в железной печке моей комнаты. Вместе с ней сгорели облигации Лианозовых, Джамгаровых, Ассадулаевых. Как хотите, в этом был некоторый отзвук революционных бурь, которые закалили наше поколение.
Поезд во-время пришел в Москву, на наш взгляд обыкновенный поезд и в обыкновенное время. Москва — все та же голодная и суровая столица эпохи военного коммунизма. Всю ночь мы занимались выставкой Съезда советов и витриной Балтийского флота. «Ночь, как ночь и улица пустынна…» Именно в эти ночи и дни Ленин показал делегатам карту электрификации, и электрические лампочки, вспыхнувшие на схеме, показались многим прекрасной и несбыточной мечтой и сном: «сейчас все проснутся, и вокруг будет та же голодная Москва, сугробы, скелеты лошадей, тиф и фронт». Между тем это был не сон, а близкое будущее, самое реальное и самое чудесное будущее страны Советов. Как уплотнен был событиями этот год! Гибель Врангеля, польская кампания, Рижский мир, восстание в Кронштадте — все это уложилось в десять-двенадцать месяцев. Трудно было разобраться в событиях и отдать предпочтение одному перед другим. У Ларисы Рейснер было острое чутье политического деятеля и публициста и темперамент большого журналиста. После болезни, жесточайших припадков малярии, она немедля уезжала за границу на Рижскую конференцию. Она понимала историческое значение мирного соглашения Советской республики и Польши. Не для фельетонов в «Красной газете» она отправлялась на конференцию, но для более важной, рассчитанной на дальний прицел, литературно-исторической работы в будущем. Ее биография дала ей в руки драгоценные темы, и если бы творческая жизнь Ларисы Рейснер не была прервана почти в самом начале, действующими лицами ее очерков были бы не только Каховский и Трубецкой, а Домбский, председатель польской делегации, и Иоффе, председатель советской, и еще десятки людей, рабочих и министров, солдат и генералов, матросов и адмиралов. Она всех их видела в своих странствиях и рассказывала о них и показывала их так, что они вставали перед ее собеседником, как живые. Именно так она рассказывала о польских офицерах, еще не опомнившихся от «чуда на Висле», об обстановке работ конференции. Эти рассказы были настолько отчетливы и рельефны, что даже простая стенографическая запись их показалась бы законченным художественным очерком, отделанным в мелких деталях. Однако, очень немногое из того, что она рассказывала, я увидел впоследствии напечатанным. Повидимому, для нее был очень сложен, труден и ответственен переход от живого рассказа к созданию художественного очерка.