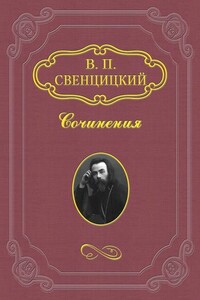Пришвин и философия | страница 55
Марсель писал о плероме как о Божественной щедрости (la générosité) и полноте жизни вечной. В частности, он говорил о Божественном великодушии как основе причинности[109]. У Пришвина мы находим сходный мотив в его классификации движений. Он различает движения «из пустоты» (или «от пустоты») и движения «от спелости, избытка»[110]. «Спелость», «избыток», то есть изобилие, бесконечность творческой мощи, отсылает к принципу полноты, об истории которого в западной традиции писал Лавджой[111]. Пришвин придает этой теме характерный для него органицистский колорит[112]. У Марселя он незаметен. Но тема плеромы как бытийной полноты для него также важна, и она связывается им с христианским духовным наследием. Подобным образом ее развивает и Пришвин, хотя явной отсылки к религии в данном случае у него нет. Однако с годами значение христианской компоненты в его понимании плероматического бытия как высшей цели у него только возрастает.
Несмотря на то что эти мыслители принадлежат к разным национальным культурам, Марсель и Пришвин близки и по жанру, и по методу. Для них обоих характерной формой выражения мысли был дневник, хотя их дневники по структуре и стилистике значительно различаются между собой. Но в обоих случаях это дневники мысли, полигоны для поисков ее оптимального словесного воплощения, когда она экзаменуется жизнью при свете совести.
Методы их работы, как мы сказали, также отчасти близки. Действительно, Марсель называет свой метод философствования «сверлящим ввинчиванием» в предмет мысли (le forage). Со своей стороны Пришвин отмечает в дневнике: «Иногда, записывая что-нибудь себе в тетрадку, как будто опомнишься – кажется, я не просто пишу, а что-то делаю и даже определенно чувствую, что именно делаю: я сверлю»