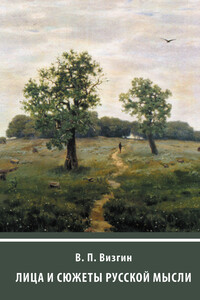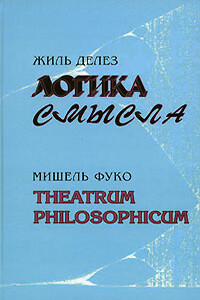Пришвин и философия | страница 47
На склоне лет Пришвин, думая о своей будущей книге, хотел показать творческий путь к другому: «Дорога к другу. Лучшее движение души русского человека это к другу, за друга (выручить, вызволить, постоять за)»[87]. Дорога к другу есть самораскрытие любви. Что обычнее ее, которой «все возрасты покорны»? Но не только все «времена» ей покорны, но и все «места», поскольку они мыслятся вместе с размещенными в них существами или, для внешнего глаза, «вещами». Говоря об этом, невольно вспоминаешь «симфонию» «творческой эволюции», блистательно начертанную Бергсоном. В тональности гимна божественной любви, одухотворяющей Вселенную и дающей ей единый смысл, она прозвучала и в последнем произведении французского философа, в «Двух источниках религии и морали». Философская мысль достигает максимально возможных для себя высот, если не отвергает с презрением художественного отношения к миру с неотъемлемой от него доверчивостью и здравым смыслом, ведущим к «наивному реализму». Ничего подобного в немецком идеализме, в частности у Гуссерля, не было. Немецкий философ силой не родственного, как у Пришвина или Бергсона, а объективирующего внимания стремится не оставить без обоснования ни одну из «мелочей» этого мира, поставив все на единое научное основание. В упорстве стремления к строгой всеобъемлющей науке он действительно велик. Но претензия на единственно истинную, ибо подлинно научную, как он считает, философию, на мой взгляд, – заблуждение, иллюзия. Наука имеет свои границы. Религию и искусство заменить она не может. Ученый мыслит подобиями и законами, сходствами и тождествами, а художник – «от-личиями», как говорил Пришвин[88], проникая светлым лучом доверия и «родственного внимания» вглубь «предмета», открывая его как неповторимое лицо и вступая тем самым в познавательном акте в личные отношения с миром. Художественное познание, на наш взгляд, позволяет и философии достигать высот знания.
Томас Рид это прекрасно понимал, сознавая при этом значение настоящей, «работающей» науки, образцом которой для него была механика Ньютона. Он хотел и своей искомой науке о человеческом духе сообщить такую же основательность и дать ей столь же весомое эмпирическое основание, как это сделал Ньютон с наукой о природе. Эмпиризм и индуктивный метод – вот истинно английское умонастроение, которое разделял не только англичанин Фрэнсис Бэкон, давший ему мощный толчок. Ему верен и шотландец Томас Рид. Заметим мимоходом, что Габриэль Марсель, говоря о «высшем эмпиризме», понятии, фигурировавшем у Шеллинга, встречается в этом выражении с британской традицией, оказавшейся ему весьма близкой. Неудивительно, что и творчество Пришвина на Западе было, прежде всего, замечено не в Германии, где он учился, или Франции, а именно в Англии, стране выдающихся натуралистов в самом широком и глубоком смысле слова