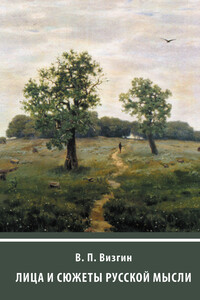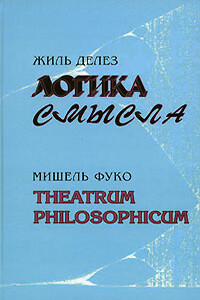Пришвин и философия | страница 42
Суть этого высказывания умудренного долгой творческой жизнью писателя не в принижении значения философии с ее специальным языком, сопровождающемся соответствующим возвышением здравого смысла с присущим ему обычным языком, который с ним неразлучен. Даже не в упреке философии в ее самомнении как «царицы наук» здесь кроется главное, а в том, чтобы ясно осознать место и функцию всех языков, обычных и необычных, общезначимых и специальных, естественных и искусственных, и понять неизбежность их гармоничной взаимосвязи и ее условия. Трудный, но зато интересный и плодотворный путь философской мысли – идти между двух крайних «огней»: между «философофобией» и «философофилией», если угодно. По нему и пошел Томас Рид. Шел он таким путем, как это обычно бывает, в условиях своего времени. Но по-другому никто из нас, смертных, идти не может.
Пусть «мостиком» между великим шотландским философом и Пришвиным нам послужит великий русский поэт – В.А. Жуковский, близкий по времени к Риду и его школе[73]. Почему Жуковский в письме Авдотье Петровне Елагиной советовал Ване Киреевскому, ее сыну, вместо немецких философов взяться за перевод шотландцев, например Дугалда Стюарта? Прямых объяснений этого я у поэта не нашел. Могу только высказать предположение, почему он дал такой совет своему воспитаннику, увлеченному как раз немецким идеализмом. В немецкой философии от Канта до Гегеля Жуковский почувствовал дисгармонию, опасный «перебор» в составе употребляемых в ней языков в пользу искусственного философского языка. Это – первое. Вторую же причину такого совета я вижу в том, что подчеркнуто специальным языком в большинстве случаев у немецких философов говорил если и не атеизм, то пантеизм и вообще рационалистическое умонастроение, уводящее от христианской культурной традиции. А в такой установке сознания, в таком умонастроении русский поэт увидел угрозу несомненной правде, самой Истине. Шотландская же философия здравого смысла, принимая и понимая развивающуюся науку своего времени, избегала крайностей, в том числе и указанной. Она учила примирять научный прогресс и христианские устои европейской цивилизации. В этом ее сила. И поэтому не случайно она оказалась близкой такому чуткому и тонкому мыслителю, каким был великий русский поэт. Какие иноземные имена напрашиваются, когда мы обращаемся к Ивану Киреевскому как отдаленному источнику русской религиозной философии в целом и пришвинской мысли в частности?