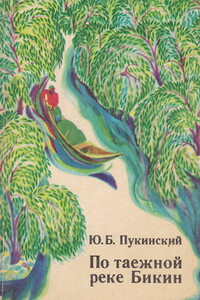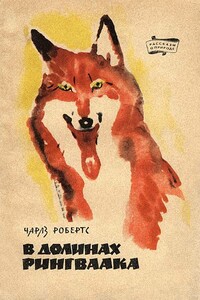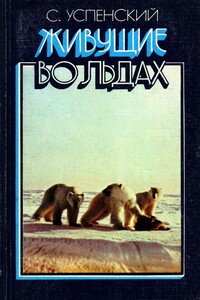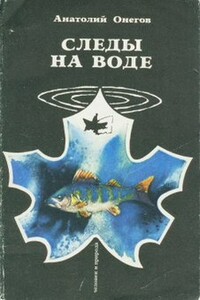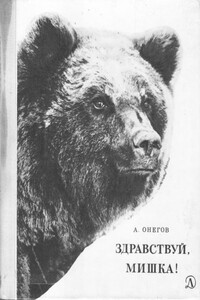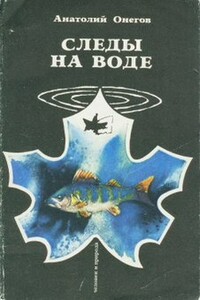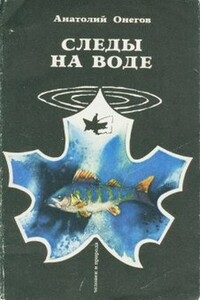Карельская тропка | страница 96
В старой, дореволюционной «памятке рыбаку» я вычитал, как положено вести себя на берегу залива, куда на нерест заходит лещ… На берегах такого залива не полагалось орать — пахать землю, — не полагалось шуметь, собираться толпами: любой шум, по словам древней памятки, мог отпугнуть рыб. Рыбы могли уйти из удобного нерестилища и откидать икру в других, менее подходящих местах, где из икры мальки либо не выведутся, а если и выведутся, то быстро погибнут, захиреют, так как не каждое место, мол, подходяще для мальков.
Лещ и сейчас не считается малоценной, сорной рыбой, а потому его имя стоит на почетном месте не только в старинной памятке, но и в современных трудах о рыбоводстве и рыболовстве в северных водоемах. И надо отдать должное рыбакам деревушки — они честно и ревностно берегли своего леща, стараясь не спускать никому даже самого малого промаха на воде. И если кто-то из чужих, приезжих рыбачков нет-нет да и высказывал вслух мысль, что рыбу сеткой не изведешь, то наши местные рыбаки придерживались иного мнения и старались выдворить непрошеных гостей, которым ничего не стоило перегородить сетями весь нерестовый залив.
И приезжие рыбачки жителей деревушки побаивались. А может, и не побаивались, а как-то особо уважали, помня, что здесь, у глубокой воды большого северного озера, и сейчас еще живут такие потомственные рыбаки-карелы, как дядя Вася, для которых чистая вода озера была не только щедрым столом — озеро было для них и домом, и дорогой, которая, никуда не сворачивая, верно вела этих молчаливых, сосредоточенных в себе стариков…
К дяде Васе у меня было особое отношение… Его упрямая верность любимому, раз и навсегда выбранному делу вызывала только уважение. Это был настоящий, трезвый и тихий рыбак-карел, который свое озеро знал, пожалуй, лучше, чем родной дом. Но это рыбацкое ремесло и подводило, бывало, прирожденного рыбака. Озеро знало много худых и удачных времен. В удачные времена дядя Вася рыбачил с артелью. Но вот откуда-то приходило очередное указание артель закрыть, и дядя Вася оставался кустарем-одиночкой без порядочной снасти, а то и без законного права на промысел, но рыбу ловить продолжал, кормил себя и детей и от других работ, что сулили к старости хоть какую-то пенсию, отказывался.
Пенсию себе старик так и не заработал — артельного стажа оказалось совсем немного, а потому ловил рыбу до самых последних дней своей трудной, но очень прямой жизни.
Путёвой снасти у дяди Васи не было — несколько стареньких сетей да простой, из обычной хлопчатой нитки, неводок-бродничок, о котором по острову ходили легенды… Говорили, что этот пебольшинский неводок-бродничок, что под силу в работе чуть ли не двум пацанам, появился на свет раньше самого дяди Васи. Жил старинный неводок потихоньку, не лез никому на глаза, ловил помаленьку, но исправно всякий раз… Но однажды неводок отобрали. И тогда дядя Вася отправился в город на поиски не то племянника, не то внука. Племянника или внука звали как будто Иваном. Иван был большим человеком, но лес и озера уважал, потому как сам зарабатывал себе на кусок хлеба в давние времена тяжелым трудом в лесу и на озере. Ивана в городе дядя Вася нашел и без обиняков приступил к делу и выложил просьбу: «Ты мне, Иван, пенсию не платишь, а неводок отобрал. Тогда корми меня…» Иван вроде бы сначала смутился, но, прикинув по совести, что старому карелу-рыбаку никак нельзя быть без рыбы, а стало быть, и без снасти, неводок отдал и желал жить и здравствовать. Правда, ни охранная, ни какая другая грамота старику выдана не была, и дядя Вася по-прежнему тайно нет-нет да и доставал из озера рыбку на уху, а малые излишки отдавал за сахар и другие мелочи, необходимые в доме так же, как и рыба.