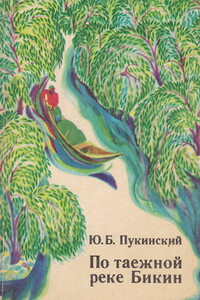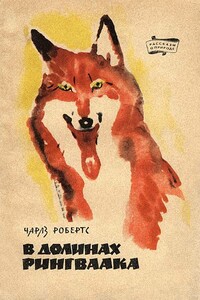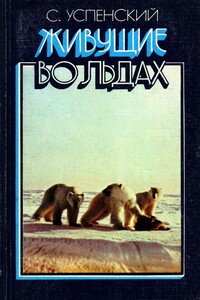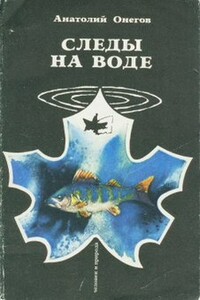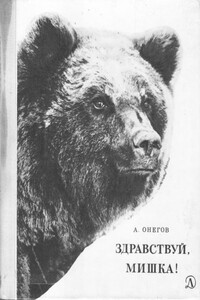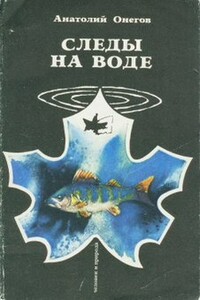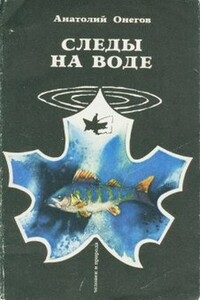Карельская тропка | страница 87
Нет, дорогие мои «искусствоведы», не родились вы от того народа, который знал, как поднять к самому облачку деревянную церквушку, поднять светло и призывно, будто это и не дерево, и не работа топором, а сам заоблачный свет.
Не ваши, а мои предки уходили от мира в лесную келью и гнали от себя мирскую плоть, чтобы увидеть спасителя, запомнить и оставить святой образ на века.
Не ваши, а мои деды и прадеды, подправив на главке церквушки последний осиновый лемешок, кололи о камни топоры, а то и казнили себя за то, что церквушка не встала светлее и легче, чем думалось раньше.
Это мои, наши мастера давали обет поставить по-над озером часовенку, ставили резное чудо и, будто не сделав ничего особенного, снова брались за соху, за весла, чтобы кормить малолетних детишек, что впроголодь, а то и голодом дожидались отца, пока поднималась, училась светить и играть на солнце лесная часовенка.
Труден путь творца и честен он всегда, творил ли своими руками незабвенные памятники, расхожие баньки или шелковые куньи воротники. Так и велось по Северу, хранилось даже в самые лихие времена, что с честью бесчестья нет, а потому карались и у русских, и у карелов, да и у всего светлоглазого северного народа, пакость и обман…
В те же недалекие времена потянулись по лесным дорогам и вооруженные «туристы»…
Хватало по лесу и зверя, и птицы, хватало и охотничьих троп, но эти тропы были лишь для людей честных. И не верилось, не казалось откровенным северным охотникам, что «туристы», прибывшие с ружьями, заступят без разрешения на чужую тропу, оставят в беде гостеприимных хозяев, указавших им путь в лес.
«Чужая тропа» — понятие скорее нравственное, чем юридическое. Правда, когда-то охотничьи троны распределялись миром, по общему согласию, и каждому охотнику доставались те охотничьи угодья, которые были указаны на бумажке, свернутой в трубочку, что вытаскивал охотник сам из шапки, поставленной при всех на стол. Там, на этой бумажке, и значилось, что Михайлу Фофанову, например, полагалось, быть с охотой сразу за своим домом к Важозеру, а там уже, по-за озером идти в юг, в лето, до самой Глухой Дачи, а с бора возвращаться обратно прямо в запад до деревни. Другому доставались места левее озера, третьему — правее, и так весь лес, все охотничьи тропы делились честно и на все времена, пока охотник мог бродить по лесу с ружьем.
По охотничьим тропам стояли и охотничьи избушки, куда охотник уходил «зимовать» на неделю, на десяток дней — как шла охота. Эти-то охотничьи тропы и охотничьи избушки и стали привлекать приезжих охотников. И не беда, если бы эти гости, как по первому времени, постреливали лишь рябцов, да тетеревов-поляшей. Но мало-помалу стрелков, прибывших из разных столиц, стали интересовать не только рябчики, тетерева, утки и глухари — мода пошла на северные меха, и как тут удержаться, как не стрельнуть по куничке, как не прибрать модную норку. Словом, закон «чужой тропы» был нарушен…