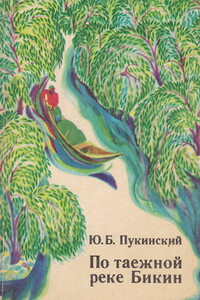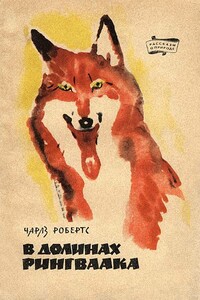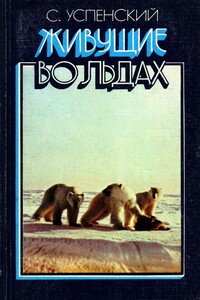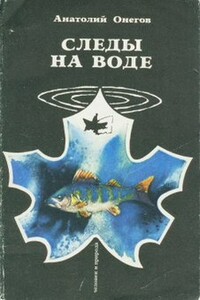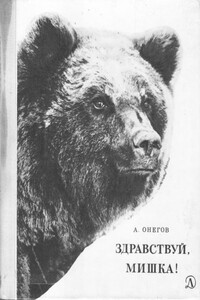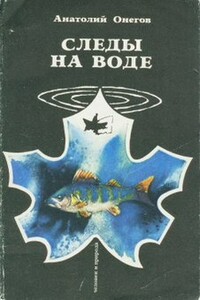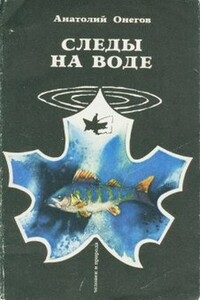Карельская тропка | страница 86
Может быть, и стоило закрыть на все это глаза, объяснить все теми или иными социальными издержками и успокоить себя мыслью, что ничего страшного не происходит, что просто ценности меняют своих владельцев, перекочевывают из глухой деревни в город, но все-таки остаются на Руси, да еще, оживая вновь, встают перед многими людьми по-новому, светят ярче… Если бы все это было так…
К сожалению, иконный промысел становился бизнесом, и вокруг него шуршали и хрустели бумажки с водяными знаками, бумажки разного достоинства и разных стран. Не из кинобоевиков, не из захватывающих повествований, а наяву: по северным дорогам сначала в тайную квартиру большого города, а потом через порт, через границу уходило от нас самое ценное, что оставил нам синеглазый и мудрый Север.
Сколько раз предлагали мне большие деньги, валюту и в Москве, и на Севере люди без имени и фамилии за открытие лесных тайн, за тропы к глухим часовенкам, за показ старых даниловских дорог, по которым из древнего монастыря, минуя лесные сторожки и канувшие в лету лесные поселения, тянулись к главному северному пути иконы, складни и рукописные книги даниловского письма и даниловской работы. И не было оправдания этим деньгам, этой валюте, хотя и пытался иконный промысел подвести под разбой простодушную философию. «А почему не брать, если для крестьянина и икона, и часовня, и прялка, и медная яндова никогда не были искусством. Для него это бог, культ, утварь.
Поймите же наконец, что крестьянин туп от природы. И вообще, мы-то сами можем понять истину древнерусского искусства — мы еще живем памятью богов и идолов…»
Нет, не придумал я ни строчки из этой циничной исповеди.
В 1967 году журнал «Наука и жизнь» принял мое предложение выступить на его страницах с материалом о Севере. Материал «Заговори, озеро, тревожным голосом колоколов» был опубликован. Выступление журнала поддержала Архангельская областная газета.
Возможно, и мои материалы, и мои предложения были учтены, и очень скоро по тихим антикварным магазинчикам приостановили комиссионную продажу икон, закрыли вывоз икон с территории страны и оговорили определенные условия для частных коллекций. Все стало так, как думалось и хотелось, но после выступления журнала почта стала приносить и приносить на мое имя письма-нотации, письма-обвинения и даже письма-угрозы. Все письма, разумеется, были анонимные, и только одно письмо содержало более исчерпывающую информацию об авторе — «Искусствовед И.». Из этого полуанонимного письма я и позволил себе выписать отдельные фразы так называемой философии бывшего иконного промысла, которые приведены выше.