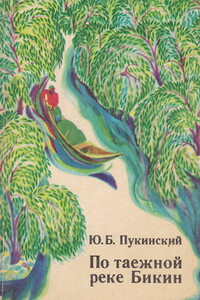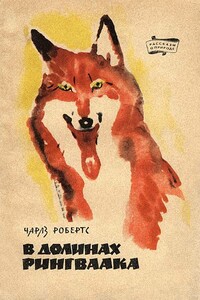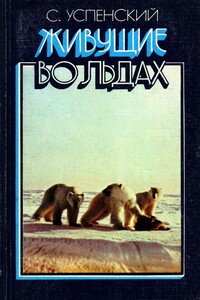Карельская тропка | страница 79
— Сначала рассказать себе надо, что плохо это, что болезнь одна от дыма, а там и самого отведет от папирос…
Этот совет я запомнил и, как-то уговорив себя по дедкиной науке, легко отказался от курева.
О своей силе дедка никогда не думал, хотя с малолетства знал от матери все травы, и лекарство, как помнит себя, никогда не принимал и болезнями не страдал, а вот бог дал все вынести и на девятый десяток заступиться… Людей в просьбах уважал и травку всякую показывал. Другой раз и несли что в благодарность, но не велел ничего приносить за лечение и доброе слово: трава не поможет, трава — она от неба и воды, а небо да вода всем отпущены.
Жил не богато, но и не бедно — корову держал, рыбку, что озеро давало, лавливал. Так бы, может, и жил, не зная другого, если бы не завелся лешак… По-другому ни Михайло, ни его жена, ни Трусовский дедка лесного пастуха и не называли.
Лешак был здешним. И мать его порчу знала и рукой порчу напускала, и травой-отравой. И такая трава здесь есть. Это уж кому что дано — кому свет, а кому тьма… Злы на нее были, и гнали, и увозили силой, а все обратно ворачивалась — видать, там, по другим местам, народ сноровистей был. Потом померла, но стали говорить, что сыну она силу свою перед смертью отдала. Сначала не все верили. Но мальчишками еще играли по-за деревней, его, лешака, возьми кто да и пихни в крапиву. Выскочил оттуда, самого не видно — одни глаза. И такие страшные. Да как закричит звериным голосом. Маленького парнишку одного и скривило на бок…
— Не застал ты его, а то бы показали — так с бедой век и маялся…
Прибежал дедка тогда к матери, кинулся в ноги и в рев. Боюсь, мол, лешака — и все тут…
— Помню-ка, матушка моя светлая и говорит тихо так, будто поет мне: «Не убивайся, детушка, сила не одному лешаку дана, сильней его сила есть…» Остались матушкины слова, являлись по ночам, особливо когда месяц-свет в окне встанет. И стало мне все казаться, что легко мне, ясно так, как в тихий день. И страхи все прошли, и лешака встречу — не я от него, а он от меня бегать начал. И стали, помню, по озеру говорить: «У Марьюшки-то сынок силой лешака берет…» Не думал я об этих словах, а от матушки не отходил, будто от нее ко мне этот свет идет… А потом матушка занемогла сердешная. И невесту в дом мне приводить приспело. И просит матушка: «Сватай подружку, и мне легче будет по дому…» А я плачу другой раз перед матушкой и прошу: «Не неволь невесту искать, пока жива, все при тебе буду, сам по дому обряжусь…» Так и жил, до девок не касался и легко было, ясно… Подружку в дом привел уж опосля, как год ушел после матушки. Уйду на могилку, травы лесные сажаю вокруг, а все плачу, будто свет весь потерял. Хозяйку в дом не искал, а встретил в лесу. Вижу — идет красавица. Поклонился ей, спросил, чья и откуда. Не испугалась, ответила, такая-то и оттуда-то идет, мол, своих родителей меньшая дочь. И повел я ее в ее дом. Поклонился новым отцу с матерью и обещал дочку ихнюю беречь пуще себя. Время-то было голодное, худое, свадеб не играли. И зажили мы по любви. Тремя сынками богаты были, да ушли все в войну и не подали весточки. Хозяюшка-то моя и занемогла. Занемогла и лежала-то недолго. Не ест, не пьет, только спросит тихо: «А Ванюшка-то с Павлушкой да Пашенька-меньшой на дворе ли?..» И помочь ей нечем…