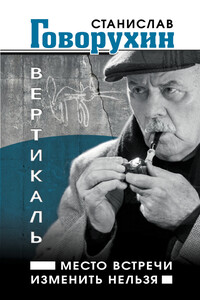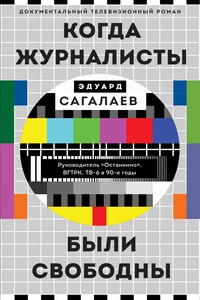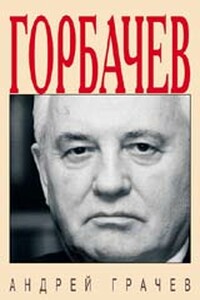Последний день СССР. Свидетельство очевидца. Воспоминания помощника президента Советского Союза | страница 16
На самом деле все было еще сложнее и не сводилось лишь к выбору осторожной тактики, которая должна была замаскировать радикальный характер и масштаб задуманных преобразований. Если инициаторы реформ были практически единодушны в отношении того, от чего они хотели «очистить» общество и избавить страну, их собственные представления о том, как может выглядеть реформированная политическая система, были достаточно смутными.
Начать с того, что зародыш проекта перестройки, обсужденный Горбачевым вместе с А. Н. Яковлевым в общих чертах в 1983 году во время их встречи в Канаде (Горбачев приехал во главе делегации советских аграриев в эту страну, куда «разжалованный» из ЦК Яковлев был сослан послом), сводился к трем-четырем «безусловным императивам»: утвердить верховенство закона, окончательно искоренить сталинизм, «обломать рога» военно-промышленному лобби и, насколько удастся, ограничить всевластие бюрократии. Этот лаконичный проект был призван сыграть роль наброска сценария для будущей «бархатной революции».
Однако даже между двумя единомышленниками согласие не шло дальше первого, «разрушительного» этапа реформ. Для Горбачева вплоть до сместившего его путча первоначальной целью перестройки было спасение социалистического (на последнем этапе — социал-демократического) проекта будущего Советского Союза.
Мечтая о соединении социалистического идеала с демократией, о «социализме с человеческим лицом», он, в сущности, пытался повторить в Советском Союзе проект реформаторов «Пражской весны» и воплотить мечту ее идеолога, своего соседа по студенческому общежитию МГУ в 50-е годы Зденека Млынаржа.
Как говорил мне позднее Яковлев, его «стилистические разногласия» с Горбачевым касались второй фазы перестройки («На первой мы оба добросовестно заблуждались насчет возможностей реформирования социализма»), которая стала для него «этапом великого лукавства»: необходимости ради осуществления перемен, выходящих за рамки социализма, утверждать, что они делаются для его спасения. Однако даже границу между этапами приходилось определять на ощупь, многократно пересекая ее то в одну, то в другую сторону.
Вторым принципиальным вопросом, над которым реформаторам предстояло задуматься, был метод осуществления назревших преобразований. Горбачев оказался редкой птицей среди российских реформаторов — человеком, убежденным в том, что по-настоящему глубокие преобразования проводятся не «железной рукой» и путем принуждения, а достигаются за счет высвобождения внутренних сил самого общества. Прийти к такому выводу бывшему комсомольскому вожаку и партийному функционеру было, надо думать, непросто.