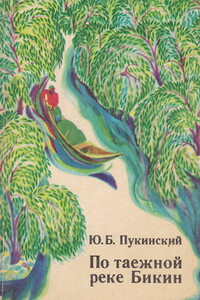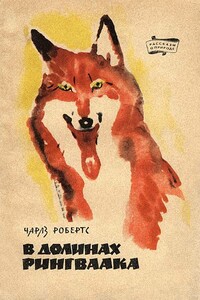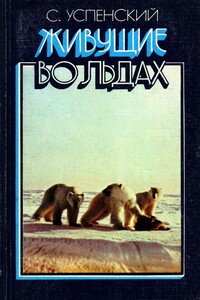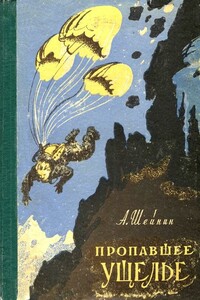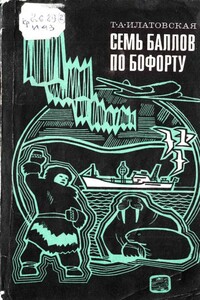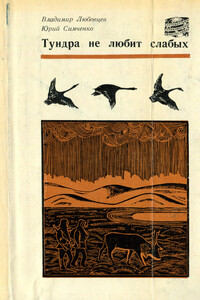Осторожно — пума! | страница 97
Вид зимовья и особенно зимовщика произвел на нас сильное впечатление. Огромная, почти в полтора километра длиной поляна раздвигала не очень высокие сопки, протягивалась вдоль долины Хомолхо, начинаясь прямо от устья Семикачи. Она была занята прекрасным, совершенно чистым лугом. Около леса стояли опрятные домики зимовья, в прибрежных кустах на берегу речки скрывалась баня. Траву скосили и собрали в несколько стогов, огородив их слегами от набегов косуль, которых здесь было великое множество. По стерне паслись две коровы. Во дворе и вокруг зимовья была идеальная чистота, что отличало его от других населенных мест ленской тайги. Мирная, идиллическая картина как бы сошла с полотна фламандского художника.
Оставив лошадей на попечение рабочих и коллектора около устья Семикачи, где решили ставить палатки, и подходя в противоположный край поляны к зимовью, я крикнул: «Эй, кто дома?» И с трех сторон горы вразнобой передразнили: «Эй… оо…аа». Акустика поляны была изумительной.
Через два километра от этой располагалась другая поляна немного меньших размеров, о чем мы узнали на следующий день.
На мой крик из сарайчика вышел зимовщик. От изумления я несколько мгновений не мог произнести ни слова. Он был копией пирата, запомнившейся с детства повести «Остров сокровищ». Невысокого роста, широкий в плечах, с неестественно длинными, почти до колен руками. Пестрая — красная с желтым — рубаха, подпоясанная веревкой, олочья из шкуры косули полузакрывали босые ноги. Седеющую голову прикрывал красный в «горохах» платок с узлом на правом ухе. В левом же ухе висела большая золотая серьга. На рябом лице несколько шрамов — то ли от медвежьих когтей, то ли от ножа. Так и казалось, что вот он сейчас подойдет и сунет мне в руку черную метку — пиратский знак самосуда. Но к удивлению, заговорил он очень любезно, ласковым голосом, резко контрастирующим с его пиратским обликом. Слащавость и чистый русский язык, без тени свойственного здешним якутам акцента еще более усиливали недоверие к искренности его тона. Впрочем, недоверие могло происходить от заранее составленного предвзятого мнения. В Бодайбо, знакомя меня с некоторыми нюансами его биографии, сказали, что семикачинского зимовщика арестовали после гражданской войны в 1923–1924 году, но вскоре отпустили, как и многих других преступников. Они, живя в изоляции среди тайги, ничего существенно вредного сделать не могли.
Вид зимовщика усугубил мое скверное настроение.