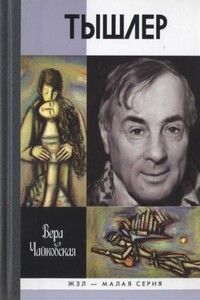Орест Кипренский. Дитя Киприды | страница 45
В 1816 году, незадолго до своего отъезда в Италию, он дает тем же великим князьям уроки гравирования. Модест Корф пишет: «Живописец Кипренский… начертил на приготовленной доске для примера одну фигуру, и Великий князь Николай Павлович также нарисовал гравированной иглой солдата; младший брат, не умея или не желая рисовать, написал иглой свое имя»[80].
Как видим, великие князья не многому научились. Тем не менее наш «звездный мальчик» из Нежинской мызы приближен к самым «правящим верхам». Но не извлекает из этого никакой выгоды. Более того, Николай I, судя по всему, сохранил о Кипренском и его свободной манере поведения самые неприятные воспоминания, что художнику впоследствии аукнулось. Подлинное восхищение Орест испытывал только по отношению к императрице Елизавете Алексеевне. Но это было не отношение к титулу, а восхищение личностью. В ней он обнаружил очень ценимые им черты «детскости», которые запечатлел в рисунке «Ангел-хранитель (детей)» (1813). Можно вспомнить, что картина с таким названием стала последним (незаконченным) произведением художника (1836). И ее он посвятил своей жене – Мариучче. Эти два «ангела» как бы обрамляют его жизненный и творческий пути. Они вынесены за пределы «социальной» жизни. И в этом контексте императрица равна безродной Мариучче. Обе «охраняют» художника, вечного ребенка.
Внутренняя свобода видна и в портретах аристократов. Вот он пишет светского льва, будущего министра просвещения и врага Пушкина Сергея Уварова, человека скользкого и леденяще-холодного. Пока что для окружающих он – «красивый мальчик», сделавший карьеру, женившись на дочери министра просвещения графа А. К. Разумовского. Портрет написан в 1813 году. В эти годы Уваров заигрывал с молодыми «прогрессистами», людьми нового склада – поэтами Жуковским, Батюшковым, Вяземским. Именно в его доме на Малой Морской пройдет в октябре 1815 года первое заседание «Арзамаса» («Общества безвестных арзамасских литераторов»), шутливо противостоящего «архаической» «Беседе». Заседания общества будут проходить то у него, то у Блудова на Невском.
Кипренский был знаком почти со всеми членами «Арзамаса», многих писал или рисовал. У него было какое-то особое пристрастие к поэтам (в отличие от Карла Брюллова, который при всей любви к поэзии не изобразил ни Пушкина, ни Лермонтова).
У Ореста находим совершенно безошибочное «детское» чутье на фальшь и рисовку. И вот Уварову в компании личностей «высшей пробы» не удалось ускользнуть от цепкого «разоблачающего» взгляда художника, несколько «подслащенного» живописным совершенством портрета.