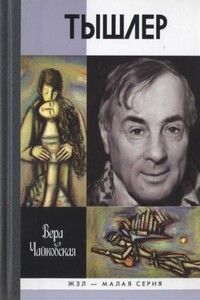Орест Кипренский. Дитя Киприды | страница 46
В этом портрете-картине гораздо больше аксессуаров, чем обычно бывает у сдержанного Кипренского. За спиной у словно бы пошатнувшегося, в томной позе облокотившегося о столик с нарядной скатертью, цилиндром и перчаткой Уварова – стройная античная колонна. В руке у персонажа – трость, но это бессмысленный предмет, знак дендизма. Столь же бессмыслен устремленный в сторону от зрителя взгляд.
Нам показывают человека внешнего, рисующегося, скрывающего свою суть с помощью актерства и помпезной обстановки.
Татьяна Ларина задавалась вопросом, не пародия ли Онегин, то есть не играет ли он роль. Кипренский изобразил Уварова некой «ходячей» пародией на реального героя времени.
Годом позже художник запечатлеет чету Хвостовых (1814, обе – ГТГ). Но, как бывало и прежде, мужской портрет не запоминается. Запоминается, и даже очень, женский!
Уже приходилось писать, что долгие годы над женскими образами художника как бы витает аура платонической сдержанности. Его героини увидены сквозь призму восхищенного и благоговеющего взгляда. В портрете Анны Фурман, в которую так безумно и неудачливо был влюблен Константин Батюшков, Орест попробовал усилить элемент живой чувственной прелести модели, противоречивости ее эмоционального состояния, сохраняя при этом «дистанцию восхищения».
Нечто сходное мы видим в портрете родовитой и богатой Дарьи Хвостовой. Романтика Кипренского не вдохновляла степень знатности и богатства. Только человеческая, женская суть. Дарья Хвостова – дальняя родственница поэта Лермонтова, урожденная Арсеньева. Перед нами легкий и прелестный образ героини, погруженной в мир своих чувств – сладостно-грустных. Опять какие-то ускользающие грезы и воспоминания, которых не был чужд и сам художник в свои «российские» годы. Весь облик Хвостовой словно бы облюбован мастером. И эта волнистая прядь, ложащаяся на округлый лоб, и чуть заостренный овал, и нежная шея, оттененная пушистым мехом, и коричневая шаль, окутывающая руки, и это ясное, но и печальное лицо. Все грустно-гармонично, все пронизано чувственной красотой, но лишенной того элемента соблазнительности, который появится у некоторых женских персонажей позднего «итальянского» Кипренского с их «магическим» и «искушающим» взглядом.
В Италии он изведает какие-то иные «токи» любви…
Дарью Хвостову, как и Наталью Кочубей, можно считать некой предшественницей Татьяны Лариной из ненаписанного еще Пушкиным романа в стихах. Она и в свете сумела сохранить в себе естественность и простоту «девчонки нежной». Образ Хвостовой, пожалуй, некая кульминация и одновременно завершение сюиты о возвышенно-прекрасных и чувственно-обворожительных женщинах-девочках России, на которых художник взирает с восторгом и обожанием. (Поздняя «Авдулина» (1822–1823) будет гораздо холоднее.) Итальянский период в этом отношении окажется совершенно иным…