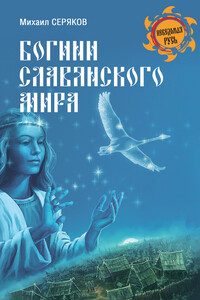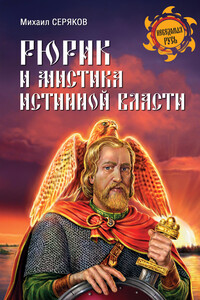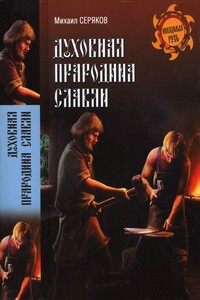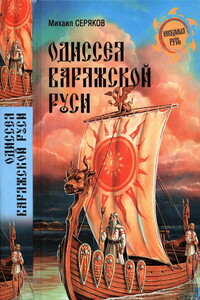Дажьбог - прародитель славян | страница 65
В другом случае к верховному правителю Руси обращаются так:
Обращают на себя внимание две особенности использования данного эпитета в былинах. Во-первых, как мы могли убедиться на приводимых выше примерах, обычно Владимира в эпосе называют просто Солнышко. Когда же Илья Муромец именует Владимира «свет», он к слову «солнышко» прибавляет еще эпитет «красное», что можно расценить как развернутый официальный титул великого князя. Во-вторых, наблюдения над текстом былин показывают, что они тяготеют к использованию слова «свет» при упоминании лиц, так или иначе связанных с сословием священнослужителей. Так, например, ни по отношению к Илье Муромцу, выходцу из крестьянской семьи, ни к Добрыне Никитичу, выходцу из семьи профессионального дружинника, былины не используют слова «свет». Когда оба богатыря просят у родителей благословения на ратные подвиги, они также не обращаются к ним с данным эпитетом. Совсем другую картину мы видим при описании Алеши Поповича, родившегося в семье ростовского попа:
При этом следует отметить, что Алеша Попович был самым младшим по возрасту из трех главных русских богатырей, заметно уступая им славой совершенных подвигов. Кроме того, став воином, сам он, естественно, не принадлежал к сословию священников, будучи связан с ним одним лишь происхождением. Тем не менее именно к нему, а не к Илье Муромцу и Добрыне Никитичу, а также к его матери былина прилагает эпитет «свет». Похожую картину мы видим в былине «Михаил Данилович», где богатырь так обращается к принявшему постриг и живущему в пустыни своему отцу Даниле Игнатьевичу (по мнению некоторых исследователей, совершившему в XII в. паломничество в Святую землю игумену Даниилу):
Нельзя сказать, что все былины во всех случаях применяли этот эпитет только к лицам духовного звания, которые в реалиях эпохи окончательного сложения их текста были уже христианскими священнослужителями, однако такая тенденция в эпосе явно существует. Поскольку понятие света даже этимологически было неразрывно связано с понятием святости, данную тенденцию следует считать исходной. О том, что тенденция эта имела языческие истоки, красноречиво говорит тот факт, что названный в договоре 912 г. «светлым князем» и «светлостью», Олег носил эпитет Вещий, причем христианский летописец однозначно указал на его связь с языческими верованиями: «И прозваша Олга — вѣщий: бяху бо людье погани и невѣигласи»