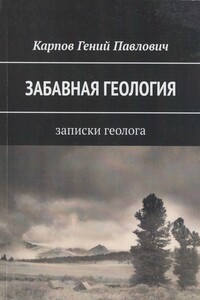Моя жизнь. Записки суфражистки | страница 52
Закончила я следующими словами: «Мы здесь, на скамье подсудимых, не потому, что явились нарушительницами законов, а потому, что стремимся стать созидательницами законов».
Дюжие полисмены, репортеры и большая часть посторонней публики прослезились, когда я закончила. Но судья, закрывавший во время моей речи свое лицо рукой, все же настаивал, что нас правильно привлекли к общеполицейскому суду, как подстрекателей к мятежу и беспорядкам. И ввиду того, что мы отказались дать обязательство не нарушать общественного порядка, он приговорил мистрисс Драммонд и меня к 3-месячному тюремному заключению, а Кристабель – к 10-недельному.
Глава IV
Очутившись в Холлоуэйской тюрьме, я прежде всего потребовала начальника ее. Когда он явился, я сказала ему, что суфражистки решили не допускать отныне обращения с собой, как с общеуголовными заключенными. Во время суда над нами два министра признали, что мы политические преступники, и потому мы отныне отказываемся подвергаться личному обыску или раздеваться в присутствии надзирательниц. Затем я лично потребовала для себя права, – и я надеялась, что остальные последуют моему примеру, – говорить с моими друзьями во время прогулки или во всех тех случаях, когда мне удастся соприкасаться с ними. Начальник, подумав, согласился признать первые два требования, но заявил, что запросит министерство внутренних дел, прежде чем решится позволить нам нарушить правило о безмолвии. Нам позволили переменить одежду на тюремную без свидетелей и поместили нас в соседних камерах. Я мало, впрочем, от этого выиграла, потому что через несколько дней была переведена в больничную камеру ввиду болезненного состояния, всегда постигающего меня в тюрьме. Здесь посетил меня начальник тюрьмы, принеся неприятное известие, что министр отказал мне в разрешении разговаривать с моими товарками по заключению. Я спросила его, будет ли мне позволено, когда я поправлюсь, гулять с моими друзьями. На это он согласился, и скоро я испытала удовольствие видеть мою дочь и других друзей и гулять с ними по мрачному тюремному двору. Мы ходили взад и вперед гуськом, на расстоянии трех-четырех шагов одна от другой, под надзором не спускавшей с нас своих неподвижных глав надзирательницы.
К концу второй недели я решила прервать насильственный обет молчания. На прогулке я вдруг окликнула свою дочь и велела ей остановиться, пока я не поравняюсь с нею. Она, разумеется, остановилась, и мы, взявшись за руки, начали тихо беседовать. Надзирательница подбежала к нам и сказала, что она должна слышать решительно все, что мы говорим. На это я ответила: «Пожалуйста, но я настаиваю на своем праве разговаривать с дочерью». Другая надзирательница поспешно ушла со двора, а затем вернулась с несколькими надзирательницами. Они схватили меня и быстро увели в камеру, причем суфражистки-узницы во всю силу своих голосов приветствовали меня за мой поступок. За свой «мятеж» они получили три дня карцера, а меня постигла гораздо более суровая кара. Отнюдь не раскаиваясь в сделанном, я сказала начальнику, что ни за что снова не подчинюсь правилу о безмолвии, каким бы наказаниям он не подвергал меня. Запрещать матери говорить с дочерью – гнусно и бесчеловечно! За это заявление я, как «опасная преступница», была отправлена в карцер, лишена прогулки и права посещать часовню, причем у моей двери была поставлена надзирательница для наблюдения за тем, чтобы я ни с кем не общалась.