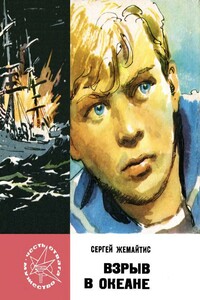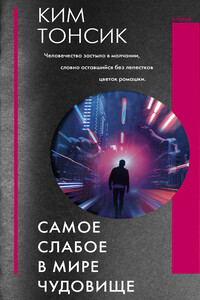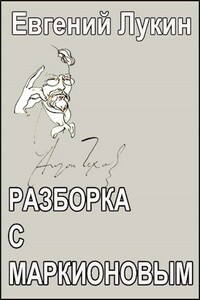Абстрактный человек | страница 80
Будто ее душа пробила некую огромную твердыню сферы и прошла внутрь ее, и там ей открылись все новые и новые прекрасные картины. Она удивилась, как она могла не видеть их раньше в себе, как они могли быть в ней и не показываться, и еще она удивилась тому, как открылись они ей, и она вдруг поняла, что то, что она привыкла называть своим Я, много больше, чем оно всегда казалось ей и всем людям, что она — это все, все, что есть кругом, что она будто лепит это все из себя, как лепит скульптор некие фигуры и потом, прячась сама от себя, начинает жить среди этих фигур, будто забыв, что именно она это вылепила, и что все эти фигуры, все эти миры, которые вылеплены ею же, все кругом — на самом деле часть ее Я. Эта часть ничем не отличается от всего остального, и разве только тем, что ей кажется, что она отдельна.
И огромное радостное чувство единения с миром, со всем, что есть кругом живого, движущегося, охватило ее. Она увидела продолжение свое всюду и, прежде всего, в нем, во Владимире Глебовиче.
Он подошел к ней и вдруг поцеловал ее волосы. Потом он поцеловал ее губы, ее глаза, и она не противилась его поцелуям. И когда он целовал ее, она почему-то видела воздушную сферу и светящуюся точку внутри нее и еще какое-то странное существо, напоминающее чем-то ребенка.
Они лежали на постели. Свет из окна падал неслышным потоком. Ее белые, немного полные ноги казались ему чуть голубоватыми в этом свете. За окном месяц, уже выглянувший на черном небе, светил мертво. Пахнуло дымом от березовых дров. Он целовал ее глаза. Он не видел ее глаз, но когда он целовал их, нежно прижимаясь к ним своими губами, то ему почему-то казалось, что за каждым из этих больших зеленоватых глаз раскрывается черный провал, который все расширяется и расширяется куда-то в глубокую даль, сливаясь с чернотой огромного звонкого неба.
Он целовал ее снова и снова, и невольно, когда он целовал ее, ему виделась не она, а места, где они вчера ходили вместе.
Уголки старинного русского городка, в котором-то и было всего сотня-две деревянных домов. И эти места, полные своих тайн и, в свою очередь, видевшие множество людей, казались ему отчего-то прекрасными.
Он увидел вдруг овраг с темными пятнами каких-то провалов. Шумел ключ. Быстрый, он бил из-под горы, из белого лунно светящегося в темноте камня. Ручей тек, и на нем стоял дом, в этом доме ручей попадал в деревянный желоб, у него стояли женщины и стирали белое белье. Они хлопали бельем о дерево, отбивая его. Ослепительное белье было разложено и на деревянных досках вокруг дома. Ручей тек дальше, к реке. Он попадал в узкий овраг, который, как расщелина, рассекал землю и там, в нем, ручей шумел по-весеннему. Пахло дымом. Майков силился вспомнить, какой был этот овраг, но вместо этого у него в душе родилась картина из черных и бурых пятен, и зелень была в ней, и белый камень ключа, и еще ощущение воды, и огромных березовых лесов, которые стояли кругом и уже набирали в себя эту воду, чтобы ожить после зимы. И березы белыми черточками попали в полуосознаваемую эту картину. И что-то грустное, тоскливое привязалось к ней, что-то такое, что раскалывало с болью душу, и он не мог отделаться от этого ощущения, словно что-то раздвоилось и в нем, и всюду в мире, и ищет соединения, и не может его найти; и от этого получалась необъяснимая грусть.