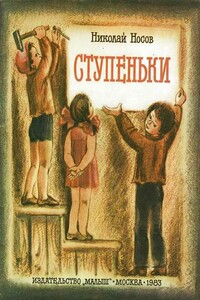Мальчик с Антильских островов | страница 5
Мама Тина напевает одну из песен, которые постоянно звучат в поселке и которые я тоже иногда пою с товарищами, когда поблизости нет взрослых.
Я думаю о том, какая прекрасная вещь солнце — ведь оно уводит старших на работу, предоставляя нам играть на свободе весь день, — и какая прекрасная вещь ночь, когда зажигаются манящие ночные огни и начинаются песни.
Бывают вечера, когда я жду не дождусь ужина. Мне хочется есть, а мама Тина, на мой взгляд, слишком много поет и прохлаждается, вместо того чтобы следить за «канарейкой».
В такие вечера самое мучительное для меня — это медлительность, с какой мама Тина приготовляет соус. Она все делает по порядку: берет глиняный соусник и начинает его ополаскивать (у нее прямо страсть все мыть и полоскать!), потом режет в него лук, крошит чеснок, потом отправляется за тмином, перцем и еще разными специями, хранящимися у нее в маленьких бумажных пакетиках. Как она копается! Как долго тянется время, пока все это тушится на огне! Залив специи бульоном, мама Тина никогда не бывает сразу довольна. Вечно ей надо чего-нибудь добавить (гвоздики, например), помешать и снова поставить на огонь — «дойти».
В передней комнате хижины мама Тина зажигает керосиновую коптилку; в ее тусклом свете среди множества теней, в том числе и наших, невероятно выросших, занимающих все помещение, возникает стол.
Мама Тина садится на стул и, держа на коленях полосатую фаянсовую миску (синюю с желтым), ест из нее руками, но от меня требует, чтобы я ставил на стол свою алюминиевую тарелку и ел вилкой, «как воспитанный мальчик».
— Ну как, набил живот? — спрашивает она меня, когда я перестаю жевать.
Три квадратика хлебного плода насытили меня до отвала; я с трудом перевожу дыхание и едва могу выговорить:
— Да, мама.
Тогда мама Тина дает мне тыквенный ковшик с водой, и я выхожу за порог хижины полоскать рот. Я изо всей силы надуваю щеки и как можно дальше выплевываю воду.
Пока мама Тина моет посуду, она, не переставая, разговаривает вполголоса сама с собой, а я сижу на стуле и слушаю, будто она обращается ко мне. Она рассказывает, как прошел день на плантации: какие были происшествия, ссоры, шутки. Иногда она так сердится, что я начинаю бояться, как бы она не разбила «канарейку» или миску, которую моет. А то вдруг засмеется таким заразительным смехом, что и я смеюсь вместе с ней. Тогда она может спросить меня:
— Над чем это ты смеешься, шалун?
Бывают дни, когда она не смеется и не сердится, но говорит, говорит безостановочно таким невнятным голосом, что я перестаю понимать, о чем она говорит, и стараюсь разглядеть, нет ли слез у нее на глазах. Так мне ее жалко!