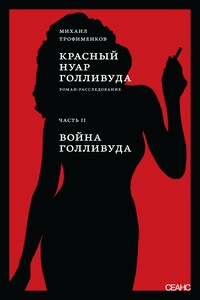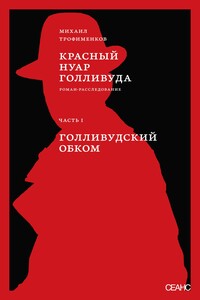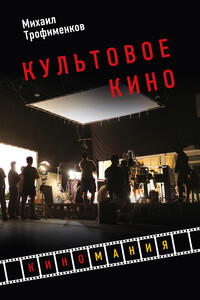XX век представляет. Избранные | страница 86
Вообще-то, кино о чекистах сочиняли или снимали профессионалы любых общественно-политических умонастроений, включая таких записных антисоветчиков, как Александр Галич, или мрачных экзистенциалистов, как Калье Кийск. Беспроигрышная тема, выгодный контракт (Андропов придал КГБ продюсерские функции), возможность поиграть в вестерн или нуар, развлечься картинками эффектного загнивания заграницы. Но Полока, не поступившись верностью революционному «формализму», вложил в чекистские фильмы душу. Его лучшим фильмом остается «Один из нас», азартный бурлеск о простодушном русском богатыре, внедренном в германское посольство накануне Великой Отечественной.
Никто даже из самых официозных режиссеров-ортодоксов за весь послесталинский период не решился воспеть чекистов предвоенных лет. Чекистов революционного призыва, верных заветам Дзержинского – да, конечно. «Сильных духом» героев подполья и организаторов партизанской войны – сколько угодно. Но только не «ежовско-бериевский» призыв. Они не решились, а «диссидент» Полока посмел. А спустя почти двадцать лет посмел посвятить чекистам «А был ли Каротин?» – столь же карнавальный по своей эстетике фильм. И пусть исчезновение из истории органов Каротина, разоблачившего в начале 1930-х шпионскую сеть в приморском южном городе намекало на его – и его поколения – гибель в годы «ежовщины». В перестроечной атмосфере сам факт героического чекистского фильма был скандален. Да еще у экранных событий была реальная подоплека – шпионское дело, фигурантов которого в перестройку или чуть позже реабилитировали. Собственно говоря, это была последняя снятая в СССР баллада о чекистах.
Но Полоке было, кажется, безразлично, какая политическая погода стоит на дворе. Одинокий, как донкихотствующий Викниксор, он сверялся лишь с собственными принципами и страстями. С гордостью говорил, что сумел в «ШКИДе» воплотить свое «понимание счастья человека» как «мгновений свободной любви». И сам был, конечно, гораздо счастливее и несравненно свободнее большинства коллег, которые не смогли воплотить свои идеи и идеалы на экраны просто-напросто потому, что не обладали ни теми, ни другими.
Михаил Пуговкин
(1923–2008)
«С таким лицом разве берут в артисты?» – усомнилась мама Михаила Пугонькина (Пуговкиным он станет по ошибке фронтового писаря), но благословила 16-летнего сына на лицедейство. И это несмотря на явный убыток в доме. Электромонтер Московского тормозного завода имени Кагановича и звезда клуба имени Каляева получал 450 рублей в месяц, артист Московского театра драмы – 75. Квадратная «будка», глаза-щелочки, нос-картошка, фатовские ужимки если не закрывали путь на сцену, то жестко ограничивали амплуа.