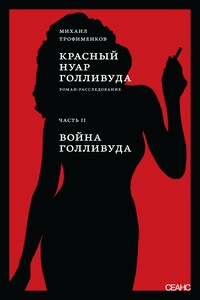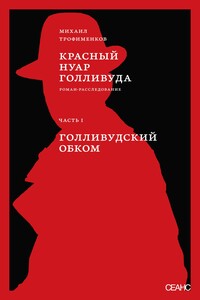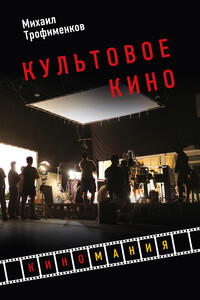XX век представляет. Избранные | страница 85
По словам Полоки, уже тогда «Седьмого спутника» должен был ставить он. Руководство «Ленфильма» его заявку отклонило: негоже отмечать 50-летие Великого октября фильмом о «красном терроре». Но Полока сумел пробить разрешение Госкино. И тогда, опять-таки по словам Полоки, в дело вступил административный ресурс. Юрий Герман пролоббировал передачу постановки своему сыну.
«Око за око» поражает. И тем, что 80-летний режиссер сохранил – такое бывает чрезвычайно редко – мускулистую профессиональную силу. И тем, что – наверное, за это надо благодарить «Беларусьфильм» – экранизация проработана до мельчайших деталей, каждое лицо и в групповке, и в массовке резко характерно. И тем, как Полока, верный эксцентриаде, смешивает трагические и комические аспекты революционной грозы. И, прежде всего, тем, что именно многократно обиженный Полока оказался единственным из режиссеров своего поколения, не предавшим былые экранные клятвы верности советской власти. Экранный генерал Адамов, арестованный как заложник в сентябре 1918 года, но перешедший на сторону революции и принявший смерть от белогвардейских рук, – святой, способный разглядеть высшую справедливость в революционной жестокости.
«Проклинать прошлое я не могу». Точка.
Говорить о нереализованности Полоки язык не поворачивается. Он был одним из редких режиссеров, обладавших собственным, очень конкретным представлением о том, что такое кино, и сумевших это представление воплотить.
Он предельно четко знал, с чем воюет. С бытовизмом – всеми этими «жирными пятнами на скатертях». С запоздалым и плохо переваренным неореализмом, который крепко ушиб большинство его ровесников; с поздней «мазохистской чернухой»; с «артхаусом» Германа и Муратовой; с экранной жестокостью, наконец.
Он твердо знал, чего он хочет: возрождения традиций революционного искусства, использовавшего, в свою очередь, традиции лубка, балагана, цирка. Отстаивал ритмический монтаж и монтаж аттракционов.
Он верил в людей 1920-х годов и верил этим людям. Потому-то и взялся за «Республику ШКИД». Последнее, что звучит там с экрана – фраза Викниксора, раздосадованного тем, что его непутевых воспитанников не принимают в пионеры: «Я дойду до Феликса Эдмундовича!» Вот и Полока тоже «дошел до Феликса Эдмундовича». Былинными героями 1920-х для него были не только учителя, но и чекисты. Учителям он посвятил одну трилогию: «Республика ШКИД», «Я – вожатый форпоста» (1986), «Наше призвание» (1981). Чекистам – вторую: «Интервенция», «Один из нас» (1970), «А был ли Каротин?» (1989). Два последних фильма, выдержанных в манере, которую Полока именовал «примитивизмом», были откровенным вызовом – не государству, а общественному мнению.