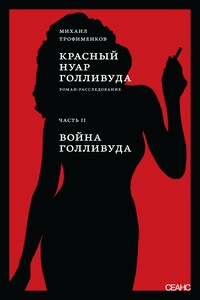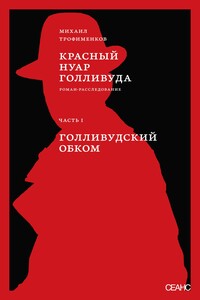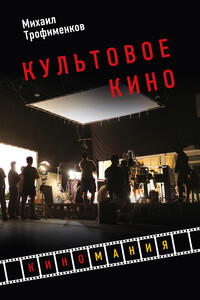XX век представляет. Избранные | страница 83
Поневоле веришь, что ветераны, узнав его на улице после премьеры «Освобождения», плакали и тащили в шалман: «Да я же, как ты, на Курской дуге помирал». И даже лощеный, но боевой генерал Орел, консультант «Освобождения», возмущался: «Да как же так, что ты утонул, да я режиссеру скажу, пусть выведет тебя из проклятого метро через какой-нибудь люк». Хотя родился актер ровно за месяц до 22 июня в вологодской деревне и войну, на которую ушел отец-портной, уже нахлебавшийся на финской, не помнил. А помнил только солдат, тянувшихся через Опихалино по домам: безногих, безруких, пьяных и плачущих.
Однако же великий Николай Акимов, уверенный в комическом даре выпускника Ленинградского театрального института, который Олялин предпочел рекомендованному отцом военно-топографическому училищу, зазывал его в свой Театр комедии. Но выпало распределение в Красноярский ТЮЗ, ожесточенный разлад с главным режиссером, утаившим от актера приглашения на съемки – в том числе на съемки, на минуточку, «Щита и меча». Причиной разлада была охальная и до сих пор живущая в актерском фольклоре эпиграмма на главного: «Искусству нужен наш Шварцбанд, как на хуй розовенький бант». Только в 1970-м Олялин вырвался на кинематографические хлеба студии имени Довженко. Похулиганить ему наверняка хотелось, но кто бы позволил комиковать капитану Цветаеву. Олялин ухитрился протащить контрабандой свой зарытый талант комика в героической вампуке Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Дерзость» (1973). Онтологическая трагедийность лица лишь усиливала пародийный эффект, когда герой, беглец из концлагеря и подпольщик, выигрывал у гитлеровского аса соревнование по стрельбе по мухам или, приготовившись погибнуть в гестапо, попадал на аудиенцию к Гитлеру, по недоразумению награждающему его Железным крестом.
В 1990-х ему повезло чуть больше, чем коллегам. Олялин сыграл Кольку Полуянова, одного из главных героев «Окраины» (1998) Петра Луцика, одного из лучших фильмов эпохи, притчи об обездоленных сатанинским олигархом крестьянах, в своей непреклонной жажде справедливости доходящих по трупам до самой Москвы и покидающих ее, охваченную пламенем. Это была, конечно, своего рода игра пусть не с буквой, а с духом советского кино, того же Довженко, но присутствие Олялина придавало ей беспощадную серьезность «гибели всерьез».
Геннадий Полока
(1930–2014)
«У меня достаточно оснований проклинать те времена, но я не могу», – пресекал Полока попытки надеть на него терновый венец мученика цензуры. Столь же категорический отказ сводить счеты с прошлым и оплакивать несбывшееся я слышал от Юлия Файта, автора двух выдающихся фильмов середины 1960-х, отлученного от «большой» режиссуры и на десять лет сосланного в кинохронику: «Зато я за эти десять лет побывал в таких уголках Союза, о которых никто и не слышал». Да и Кира Муратова на судьбу не жаловалась, и Николай Рашеев, автор «Бумбараша», в мемуарах не плачется, хотя они тоже реально в свое время натерпелись.