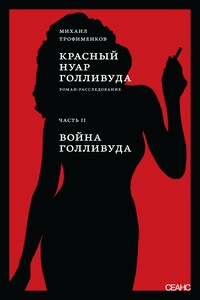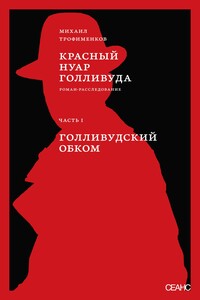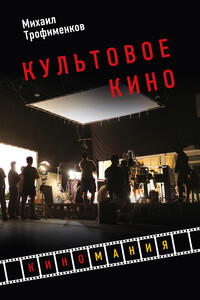XX век представляет. Избранные | страница 82
Изо всех режиссеров перестроечного призыва именно этот нижнетагилец, пришедший на «Ленфильм» в «знаковом» 1985 году, выпускник Уральского политеха, не просто продолжил традиции блестящей, вольнодумной и снобистской студии, а принял их как что-то родное, созвучное его темпераменту, дружелюбному сочувствию к людям, наполнявшему его фильмы. «Барак» и «Красное небо» сняты по повестям столь же безвременно ушедшего из жизни уральского писателя Виктора Петрова из города Сатка. Об этом городе Огородников говорил с изумленным восхищением, как о своем открытии, своей добыче, идеальной ретронатуре: Сатка выглядит в наши дни так же, как в 1930-е.
Столь же неутомим он был в поисках актеров. Такого количества незамыленных лиц, как в его фильмах, не встретишь, пожалуй, ни у кого из его коллег: от Кинчева и друзей-киноведов до додинских актеров, обойденных кинематографом. Даже своей смертью Валера Огородников продолжил другую, проклятую ленфильмовскую традицию – уходить в расцвете сил, не завершив последний фильм.
Честно говоря, я не очень любил его фильмы. Зато любил его самого.
Николай Олялин
(1941–2009)
Олялин шагнул почти за грань кинематографа в ту минуту, когда капитан Цветаев из эпопеи «Освобождение» (Юрий Озеров, 1971) погиб, спасая людей в затопленном берлинском метро. Он возвысил солдатский подвиг до чего-то, чему трудно подыскать имя: почти самоубийство Бога, искупающего грехи человечества. Впрочем, само уникальное лицо Олялина придавало метафизический смысл любой роли. Проступающие сквозь кожу кости черепа, впалые щеки, горящий взгляд на изможденном лице. Сюжет мог быть фальшив – правда страдания, которое излучал Олялин, неподдельна. Посмотрите хотя бы на ядерщика Нерчина в «Длинной дороге в короткий день» (Тимофей Левчук, 1972), перепеве эстетики и философии «Девяти дней одного года», как их понимали на студии имени Довженко.
Актерам, играющим призраков, не веришь. Олялин – исключение. В «Беге» (Александр Алов и Владимир Наумов, 1971) вестовой Крапилин, преследующий своего палача, врангелевского генерала-вешателя Хлудова – натуральный выходец с того света, безжалостно недоумевающий, за что его убили. По большому счету это архетип: отвоевав свое, солдат неправой войны получает право призвать к ответу тех, кто послал его на смерть.
Но даже играя живых военных, неуклонно растя в званиях, от летчика-истребителя Болдырева в «Днях летных» (Игорь Ветров, Николай Литус, Леонид Ризин, 1966) до полковников Павлова («Шел четвертый год войны», Георгий Николаенко, 1983) и садиста-савинковца Павловского («Синдикат-2», Марк Орлов, 1981), Олялин всегда был сожженным войной мертвецом, продолжающим сражаться в вечной увольнительной. Святым маньяком, как майор Топорков в «Обратной дороги нет» (Григорий Липшиц, 1971), невиданно жестокой – в экзистенциальном, а не физиологическом смысле – истории партизанского обоза, везущего не оружие, как думают герои, а ящики с кирпичами, отвлекая на себя карателей. Религиозный подтекст истовости прозвучал вслух в «Пропавшей экспедиции» (1975) и «Золотой речке» (1976) Вениамина Дормана, где Олялин был Силантием, старообрядцем-душегубом, для которого двуперстие и топор равноценны.