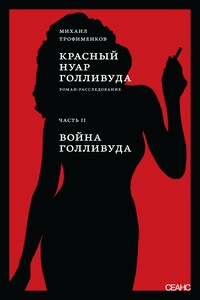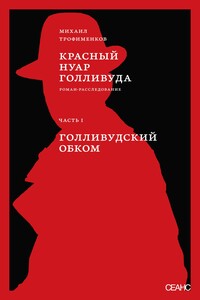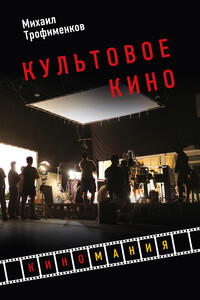XX век представляет. Избранные | страница 81
Такой же мощный и мучительный интеллект – именно интеллект, а не его «хозяина» – Мягков сыграл в забытом шедевре Сергея Микаэляна «Гроссмейстер» (1972). Интеллект, направленный, и на том спасибо, не на погибель человечества, а на такую абстракцию, как шахматы. Гроссмейстер Хлебников – с ласковым прозвищем Хлебушек – был по жизни типичным Лукашиным, а по масштабам своего дара – Лениным или Нэли. Это был не только, возможно, что и лучший его фильм, но и выдающийся парадокс об интеллигенции, историю которой вполне можно написать на основе одной лишь фильмографии Мягкова.
Валерий Огородников
(1951–2006)
Валерий Огородников снимал кино, похожее на него самого: крупное, основательное, какое-то неистребимо – если не чересчур – здоровое. Кино без комплексов, самодостаточное. Бескорыстное, как бескорыстен был он сам в отношениях с критиками: «Да не надо, Мишка, обо мне ничего писать, давай просто дернем».
Но это кино всегда было себе на уме: при всей простоте сюжетных схем выкидывало формалистические коленца, при всей своей «народности» питалось множеством культурных ассоциаций.
Его дебют «Взломщик» (1987) только ленивый не ругал по принципу «вас здесь не стояло». Как же, провинциал посмел первым снять святая святых питерской богемы – кафе «Сайгон» и его завсегдатаев. Наверное, критиков больше всего бесило то, что, игнорируя тусовочные заморочки, Огородников накладывал на историю двух братьев – старшего, злого панка (Константин Кинчев) и не по годам серьезного младшенького – схему «Братьев Карамазовых». И точно так же режиссировал любовь обитателей психушки в «Опыте бреда любовного очарования» (1991) по образу и подобию «Ромео и Джульетты». Для него вообще существовали бессмертные, вечно возвращающиеся истории, и только их он считал достойными интереса. Только современный Федор Карамазов носил косуху, а отец Лоренцо жил на зарплату главврача.
Самый странный и непонятый – то ли лучший, то ли худший – фильм Огородникова – «Бумажные глаза Пришвина» (1989), изощренный коллаж, которым он походя опроверг адресованные «Взломщику» упреки в примитивности: радикально авторская, многоэтажная конструкция. На одном «этаже» перестроечный режиссер, исповедующий принцип «это не брак – это эстетика», лепил лихую агитку об офицере НКВД, трахающем в своем кабинете жену подследственного; зрители не сразу догадывались, что смотрят кино в кино. На другом – оппонент бракодела пытался разгадать тайну исчезновения в 1949 году пионеров отечественного телевидения. На третьем – бесновались маски советской и антисоветской истории, глумливо отплясывал Сергей Эйзенштейн, с которым выморочные «ветераны-потемкинцы» пытались спорить цитатами из Солженицына, а Сталин строил с трибуны шаловливую «козу» первомайским демонстрантам. Восемь лет Валерий Огородников не снимал: грянули 1990-е. Но форму не утратил, желания работать не растерял, только накопил энергию. Вернувшись в режиссуру, вновь доказал, что может быть предельно прост и сентиментален, как в многофигурном «Бараке» (1999), и необычен, почти сюрреален, как в «Красном небе, черном снеге» (2005).