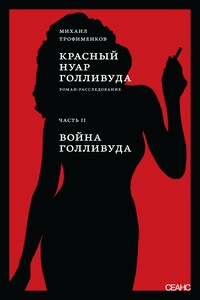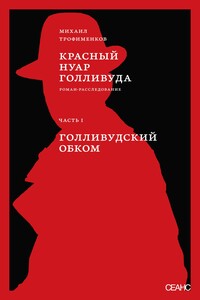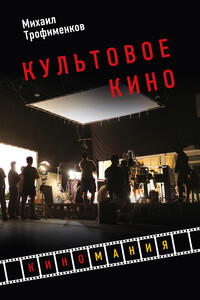XX век представляет. Избранные | страница 106
Наивного композитора Нинушу, отправившегося в горы собирать народные мелодии, не то что принимали за эмиссара подполья, а усилиями местных «бесов», бескорыстных и тем более страшных провокаторов, буквально впихивали на эту роль. Обрекая на смерть и его, и всех, к кому он приближался.
Рыцарственный Хареба, управляющий княжеским имением, по воле обстоятельств становился на пару с безмозглым богатырем Гоги главарем шайки полубандитов-полуповстанцев.
Истории, которые должны были стать героическими балладами, обернулись кафкианскими притчами о смертоносном самолюбовании и самодовольстве. Статичные планы, на которых Шенгелая уже строил «Пиросмани», придавали горчайшей национальной самокритике особую жуть. Тихого извозчика, родного брата героя Кикабидзе из «Мелодий», революционеры принуждали стрелять по людям. Обаятельные бахвалы и кутилы оборачивались смертельно опасными провокаторами. Веселые князья – тиранами. Благородные разбойники некрасиво убивали и столь же некрасиво умирали под «Сулико», выплевывая на мостовые Телави и горные снега сгустки крови.
Естественно, что Шенгелая при режиме Гамсахурдии оказался среди врагов нации, которую, как никто, любил и которой, как никто, пытался раскрыть глаза. И свой последний фильм «Смерть Орфея» (1996; после этого режиссер занялся виноделием и созданием «Грузинской партии лозы – вместе с Россией») посвятил советской грузинской интеллигенции, погибающей в донкихотовском противостоянии с националистами, неотличимыми от бандитов, и бандитами, исповедующими грузинский нацизм. Будь этот фильм лишь политическим высказыванием, он уже был бы достоин восхищения. Но Шенгелая, работая на пепелище национального кинопроизводства, снимая кино «за три копейки», не поступился не только принципами, но и профессионализмом.
Даже если бы Шенгелая не снял «Смерть Орфея», он все равно был бы «пророком в своем отечестве». С точки зрения сегодняшнего дня и «Путешествие молодого композитора», и «Хареба и Гоги» нечто большее чем фильмы: отчаянные предвидения подступающей к Грузии беды.
Анатолий Эйрамджан
(1937–2014)
Для Остапа Бендера образом земного рая был Рио-де-Жанейро, для Эйрамджана – Майами, куда он переселился в 2005 году. Разница невелика: и там и там все ходят в белых штанах. Еще меньше разнятся времена, в которые выпало жить Бендеру и Эйрамджану. Перестройка 1980-х – ренессанс и отсроченная, но тем более страшная, историческая месть нэпа 1920-х. Такое кино, королем которого был Эйрамджан, наверняка снимал бы Остап, внедрись он в киноиндустрию. Юлий Гусман, бакинский земляк Эйрамджана, как бы по-доброму шутил: Толя снимает так, словно между братьями Люмьер и им самим режиссеров на белом свете вообще не водилось. Что ж, худший режиссер всех времен и народов Эд Вуд некогда придерживался точно такой же режиссерской философии. Но только Вуд получил культовый статус благодаря фильму Тима Бертона, через шестнадцать лет после смерти, а фильмы Эйрамджана, снимавшиеся за семь-восемь, если не за шесть дней, были бесспорными хитами: «За прекрасных дам!» (1989), «Бабник» (1990), «Моя морячка» (1990), «Импотент» (1996).