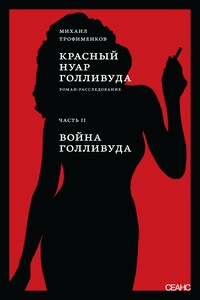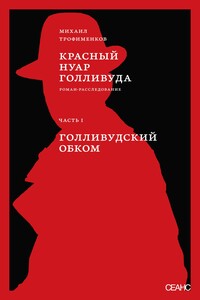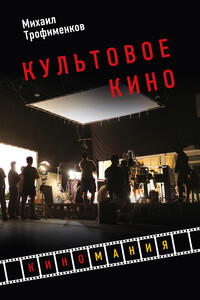XX век представляет. Избранные | страница 105
Шенгелая – талант мучительно раздвоенный, то отчаянно злой, то нежный до патоки. Вообще грузинская культура – что роднит ее с польской культурой – мечется между самолюбованием и самокритикой. Лучшие грузинские фильмы – «Жил певчий дрозд» Иоселиани, «Городок Анара» Квирикадзе, «Ступени» Рехвиашвили – максимально беспощадны к национальному самомнению.
Эта раздвоенность – сюжет первого же фильма Шенгелаи, 42-минутной «Алавердобы» (1962), на первый взгляд укладывающейся в линейку антиклерикальных хрущевских фильмов. Типично оттепельный персонаж, молодой и прогрессивный журналист, отправлялся на древний религиозный праздник Алавердоба у храма в Алазанской долине, чтобы, патетически выражаясь, определиться со своей национальной идентичностью. Идентичность представала перед ним со всех, несовместных сторон. То торжественным ночным бдением патриархальных крестьян, то тупым дневным кутежом шоферов и торгашей, то пошлым экстазом столичной интеллигенции, приехавшей «припасть к корням». То «бессмысленностью, разобщенностью, танцем без музыки», вызывающим желание взбудоражить самодовольную толпу хулиганской выходкой, то величием храма и природы, которое не в состоянии унизить человеческое свинство.
В «Алавердобе» прозвучали слова, ключевые для творчества Шенгелая: гуляк, пляшущих даже в стенах храма, герой назвал «теми, кто не может выйти из роли».
Следующие тридцать лет Георгий Шенгелая то пытался – безумно успешно – войти в роль карнавального грузина, то с отвращением ее отвергнуть.
В своей первой ипостаси автор баллады о благородном разбойнике «Он убивать не хотел» (1966), биографического лубка «Пиросмани» (1969) и первого в СССР мюзикла, сделанного по голливудским стандартам, «Мелодии Верийского квартала» (1973) завоевал всесоюзную любовь, воплотив туристические, умилительные, пошлые стереотипы Грузии. Сходили с холстов кутилы-князья Пиросмани, сам художник скорбно угасал в благородной нищете, пели, плясали, шутя побеждали безобидных сильных мира сего тифлисские прачки, извозчики и кинто. Сообщниками режиссера в строительстве сиропной Грузии были Софико Чиаурели, Вахтанг Кикабидзе и Ия Нинидзе, прозванная после «Мелодий» «советской Одри Хепберн».
Но потом что-то случилось, и Шенгелая, не считая проходной «Девушки со швейной машинкой» (1980), замолчал на двенадцать лет. После паузы явился другой – «вышедший из роли» – Шенгелая, автор сумрачных шедевров «Путешествие молодого композитора» (1985) и «Хареба и Гоги» (1987), действие которых разыгрывалось в Грузии, выжженной «белым террором» после разгрома революции 1905 года. И, как теперь уже очевидно, предвещало «белый террор» гамсахурдистов.